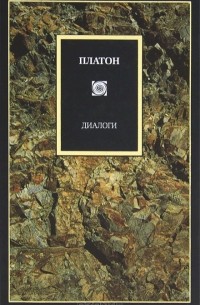
 Ваша оценка
Ваша оценкаРецензии
 Tin-tinka10 апреля 2022 г.
Tin-tinka10 апреля 2022 г.Занимательные беседы
Читать далееВесьма увлекательная книга и, если бы не некоторые устаревшие моменты в рассуждениях, которые, к сожалению, занимают весьма приличный объём данного сборника, можно было бы поставить и более высокую оценку. Приступая к чтению, я ожидала некого морализаторства в духе Луция Сенеки, но стиль автора меня очень порадовал, тут даже были весьма смешные моменты, уж не говоря про глубину мыслей и погружение в историческую атмосферу древнего мира.
Даже не знаю, кому стоит возносить дифирамбы: то ли писательскому таланту Платона, который столь ярко и живо воссоздал Сократа, наделив его отчасти своими мыслями и чертами, то ли сам Сократ был именно такой замечательной фигурой прошлого. Читая тексты данного сборника, я пришла к выводу, что Сократ был весьма ироничным человеком, любящим прикидываться простачком, этаким невеждой, который всех глупее и лишь от других ждёт мудрости. Его излишняя скромность показалась мне некой лукавой позой, в которую вряд ли кто верит, а иногда прямо называет такое поведение известного мудреца рисованием перед собеседником или ломаньем. Особенно явно это проявляется в диалоге Сократа с Федром в повести «Федр».
Стоит отметить, что выпущенные издания диалогов Сократа весьма различны по содержанию, в моей версии были только нижеперечисленные части, про которые хочется рассказать отдельно.
«Евтифрон» - открывает сборник и показывает нам Сократа у царского портика, где он рассказывает своему знакомому Евтифрону, что ему был вчинен иск, а обвинителем предстает некий питфеец Мелет. Но в этой части мы больше узнаем про Евтифрона, чем о деле самого Сократа, ведь причина, приведшая собеседника в суд, тоже весьма необычная – он подает жалобу на своего отца из-за убийства. Интересно отметить, что, видимо, в то время выступать против отца вообще было не принято, более того, Сократ уверен, что речь идет о смерти кого-то из домашних, «ведь не стал бы ты привлекать отца к судебной ответственности из-за чужого?»
Далее следует весьма мудреный диалог на тему, Что есть благочестие и в чем его отличие от богоугодного дела, ведь самоуверенный Евтифрон уверен, что он точно знает, Что есть нечестивое и что угодно богам, поэтому может определять вину своего отца. Лукавый же Сократ, долго ходя вокруг да около, задавая различные вопросы, подводит своего собеседника к мысли, что тот ничего не знает и поэтому преследовать отца за убийство не может. И в этом мне видится некая странность, ведь, с одной стороны, благодаря хитрым логическим построениям (которые, на мой взгляд, вовсе не всегда выглядят логичными, скорее связывают несвязанные вещи, ищут подобие там, где его вроде бы и нет) мудрец заставляет нас задуматься, а имеем ли мы вообще право кого-либо судить, если нам доподлинно не известно, что есть правильное и неправильное. А с другой стороны, получается, так можно дойди до того, что суды вовсе не нужны и за убийство не стоит нести ответственность ( что, конечно, является достаточно интересным философским вопросом, как тут не вспомнить идеи Толстого о том, что суды не должны существовать, ведь Иисус Христос говорил «не судите...»)Но подумай вот о чем: благочестивое любимо богами потому, что оно благочестиво, или оно благочестиво потому, что его любят боги?
Если бы ты не имел ясного представления о благочестивом и нечестивом, ты никоим образом не мог бы из-за поденщика преследовать престарелого отца за убийство, но убоялся бы и богов – не отважился ли ты на ложный шаг – и людей постыдился бы тоже.
Ну, а теперь-то я уверен, что ты ясно представляешь себе благочестивое и нечестивое. Скажи же, любезнейший Евтифрон, что ты об этом думаешь, не таясь.Следующая часть - «Апология Сократа» - практически не содержит диалогов, так как является монологом философа на суде. Речь обвиняемого читать весьма интересно, настолько она складная, мелодично-текущая и тут вновь множество моментов, которые хочется процитировать:
В самом деле, если вы думаете, что, убивая людей, вы удержите их от порицания вас за то, что живете неправильно, то вы заблуждаетесь. Ведь такой способ самозащиты и не вполне возможен, и не хорош, а вот вам способ и самый хороший, и самый легкий: не закрывать рта другим, а самим стараться быть как можно лучше.Ему-де известно, говорит он, почему развращаются молодые люди и кто именно их развращает. Выходит, что он-де мудрец, а я, как он усмотрел, невежда и развращаю его сверстников, потому-то он и выступает перед городом-матерью с обвинением против меня. Мне мнится, что среди всех государственных мужей он единственный действует правильно: в самом деле, ведь правильно прежде всего проявить заботу о молодых людях, чтобы они были как можно лучше, как хорошему земледельцу подобает прежде всего позаботиться о молодых побегах, а уж после обо всем остальном. Подобным же образом и Мелет, возможно, сначала хочет выполоть нас, из-за которых гибнут ростки юности, – так он говорит, – а уж затем, как это ясно, он позаботится и о старших и учинит для города множество величайших благ: по крайней мере, так обычно бывает с теми, кто выступает с подобными начинаниями.
Могу вас уверить, что так велит бог, и я думаю, что во всем городе нет у вас большего блага, чем это мое служение богу. Ведь я только и делаю, что хожу и убеждаю каждого из вас, молодого и старого, заботиться раньше и сильнее не о телах ваших или о деньгах, но о душе, чтобы она была как можно лучше, говоря вам: не от денег рождается доблесть, а от доблести бывают у людей и деньги и все прочие блага, как в частной жизни, так и в общественной. Да, если бы такими словами я развращал юношей, то слова эти были бы вредными. А кто утверждает, что я говорю что-нибудь другое, а не это, тот несет вздор. Вот почему я могу вам сказать, афиняне: послушаетесь вы Анита или нет, отпустите меня или нет – поступать иначе, чем я поступаю, я не буду, даже если бы мне предстояло умирать много раз.
Мне-то ведь не будет никакого вреда ни от Мелета, ни от Анита, да они и не могут мне повредить, потому что я не думаю, чтобы худшему было позволено вредить лучшему. Разумеется, он может убить, изгнать из отечества, отнять все права. Но ведь это он или еще кто-нибудь считает все подобное за великое зло, а я не считаю; гораздо же скорее считаю я злом именно то, что он теперь делает, замышляя несправедливо осудить человека на смерть. Таким образом, о мужи афиняне, я защищаюсь теперь совсем не ради себя, как это может казаться, а ради вас, чтобы вам, осудивши меня на смерть, не проглядеть дара, который вы получили от бога. В самом деле, если вы меня убьете, то вам нелегко будет найти еще такого человека, который, смешно сказать, приставлен к городу как овод к лошади, большой и благородной, но обленившейся от тучности и нуждающейся в том, чтобы ее подгоняли. В самом деле, мне кажется, что бог послал меня городу как такого, который целый день, не переставая, всюду садится и каждого из вас будит, уговаривает, упрекает. Другого такого вам нелегко будет найти, о мужи, а меня вы можете сохранить, если вы мне поверите.
И вы на меня не сердитесь, если я вам скажу правду: нет такого человека, который мог бы уцелеть, если бы стал откровенно противиться вам или какому-нибудь другому большинству и хотел бы предотвратить все то множество несправедливостей и беззаконий, которые совершаются в государстве. Нет, кто в самом деле ратует за справедливость, тот, если ему и суждено уцелеть на малое время, должен оставаться частным человеком, а вступать на общественное поприще не должен.
Немного не захотели вы подождать, о мужи афиняне, а вот от этого пойдет о вас дурная слава между людьми, желающими хулить наш город, и они будут обвинять вас в том, что вы убили Сократа, известного мудреца. Конечно, кто пожелает вас хулить, тот будет утверждать, что я мудрец, пусть это и не так. Вот если бы вы немного подождали, тогда бы это случилось для вас само собою; подумайте о моих годах, как много уже прожито жизни и как близко смерть. Это я говорю не всем вам, а тем, которые осудили меня на смерть.
А еще вот что хочу я сказать этим самым людям: быть может, вы думаете, о мужи, что я осужден потому, что у меня не хватило таких слов, которыми я мог бы склонить вас на свою сторону, если бы считал нужным делать и говорить всё, чтобы уйти от наказания. Вовсе не так. Не хватить-то у меня, правда, что не хватило, только не слов, а дерзости и бесстыдства и желания говорить вам то, что вам всего приятнее было бы слышать, вопия и рыдая, делая и говоря, повторяю я вам, еще многое, меня недостойное, – все то, что вы привыкли слышать от других.
Потому что ни на суде, ни на войне, ни мне, ни кому-либо другому не следует избегать смерти всякими способами без разбора. Потому что и в сражениях часто бывает очевидно, что от смерти-то можно иной раз уйти, или бросив оружие, или начавши умолять преследующих; много есть и других способов избегать смерти в случае какой-нибудь опасности для того, кто отважится делать и говорить все. От смерти уйти нетрудно, о мужи, а вот что гораздо труднее – уйти от нравственной порчи, потому что она идет скорее, чем смерть.
В следующей части -«Критон» - мы встречаемся с Сократом, ожидающим казни, и наблюдаем за его диалогом с Критоном. Эта беседа посвящена обсуждению побега приговоренного из тюрьмы и тем аргументам, которые философ приводит, объясняя, что не стоит противиться закону, даже если он кажется несправедливым. Его доводы не могут не вызывать уважение, хотя и кажутся с современной точки зрения очень необычными: как хранить верность Отечеству и его законам, если тебя несправедливо осудили? Сократ размышляет о том, что город, его вырастивший, давший образование, имеет право на человека не меньшее, чем отец, что человек - раб своего государства, если он не покинул его до внесения в гражданские списки, если он оставался гражданином после ознакомления с Законом, не выбрал иммиграцию, а пользовался всеми благами, то и в дальнейшем он должен или пытаться исправить свое Отечество или исполнять его законы. В этом чувствуются отголоски прошлой эпохи, где рабы должны были исполнять волю господина, дети - отца, но в тоже время не является ли это неким противопоставлением своей личной выгоде и эгоизму, без какие-либо обязательств перед семьей и обществом?
Стало быть, уже не так-то должны мы заботиться о том, что скажет о нас большинство, мой милый, а должны заботиться о том, что скажет о нас тот, кто понимает, что справедливо и что несправедливо, – он один да еще сама истина. Таким образом, в твоем рассуждении неправильно, во‐первых, то, что ты утверждаешь, будто мы должны заботиться о мнении большинства относительно справедливого, прекрасного, доброго и им противоположного.
Сократ. А теперь вот что, Критон: делать зло – должно или нет?
Критон. Разумеется, не должно, Сократ.
Сократ. Ну а воздавать злом за зло, как этого требует большинство, справедливо или несправедливо?
Критон. Никоим образом не справедливо.Сократ. Стало быть, не должно ни воздавать за несправедливость несправедливостью, ни делать людям зло, даже если бы пришлось и пострадать от них как-нибудь. Только ты смотри, Критон, как бы не оказалось, что, соглашаясь с этим, ты соглашаешься вопреки общепринятому мнению, потому что я знаю, что так думают и будут думать немногие. Впрочем, когда одни думают так, а другие не так, тогда уже не бывает общего совета, а непременно каждый презирает другого за его образ мыслей.
Сократ. Ну так посмотри вот на что: если бы, в то время как мы собирались бы удрать отсюда – или как бы это там ни называлось, – если бы в это самое время пришли сюда Законы и Государство и, заступив нам дорогу, спросили: «Скажи-ка нам, Сократ, что это ты задумал делать? Не задумал ли ты этим самым делом, к которому приступаешь, погубить и нас, Законы, и все Государство, насколько это от тебя зависит? Или тебе кажется, что еще может стоять целым и невредимым то государство, в котором судебные приговоры не имеют никакой силы, но по воле частных лиц становятся недействительными и уничтожаются?» Что скажем мы на это или на что-нибудь подобное, Критон? Ведь не одни только риторы могут сказать многое в защиту того закона, который мы отменяем и который требует, чтобы судебные решения сохраняли силу. Или, может быть, мы возразим, что ведь это же город поступил с нами несправедливо и решил дело неправильно? Это мы, что ли, им скажем?
«Так. Ну а после того, что ты родился, воспитан и образован, можешь ли ты отрицать, во‐первых, что ты наше порождение и наш раб – и ты и твои предки? Если же это так, то думаешь ли ты, что по праву можешь с нами равняться? И что бы мы ни намерены были с тобою делать, находишь ли ты справедливым и с нами делать то же самое? Или, может быть, ты думаешь так, что если бы у тебя был отец или господин, то по отношению к ним ты не был бы равноправным, так что если бы ты от них терпел что-нибудь, то не мог бы ни воздавать им тем же самым, ни отвечать бранью на брань, ни побоями на побои и многое тому подобное, ну а уж с Отечеством и Законами все это тебе позволено, так что если мы, находя это справедливым, вознамеримся тебя уничтожить, то и ты, насколько это от тебя зависит, вознамеришься уничтожить нас, Отечество и Законы, и при этом будешь говорить, что поступаешь справедливо, – ты, который поистине заботишься о добродетели? Или уж ты в своей мудрости не замечаешь того, что Отечество драгоценнее и матери, и отца, и всех остальных предков, что оно неприкосновеннее и священнее и в большем почете и у богов, и у людей – у тех, у которых есть ум, и что если Отечество сердится, то его нужно бояться, уступать и угождать ему больше, нежели отцу, и либо его вразумлять, либо делать то, что оно велит, и если оно приговорит к чему-нибудь, то нужно претерпевать это спокойно, будут ли то розги или тюрьма, пошлет ли оно на войну, пошлет ли на раны или на смерть, – что все это нужно делать, что это справедливо и что отнюдь не следует сдаваться врагу, или бежать от него, или бросать свое место, но что и на войне, и на суде, и повсюду следует делать то, что велят Город и Отечество, или же вразумлять их, когда этого требует справедливость, учинять же насилие над матерью или над отцом, а тем паче над Отечеством есть нечестие?» Что мы на это скажем, Критон? Правду ли говорят Законы или нет?
Сократ. «Ну вот и рассмотри, Сократ, – скажут, вероятно, Законы, – правду ли мы говорим, что несправедливо то, что ты задумал теперь с нами сделать. В самом деле, мы, которые тебя родили, вскормили, воспитали, наделили всевозможными благами, и тебя и всех прочих граждан, – в то же время мы предупреждаем каждого из афинян, после того как он занесен в гражданский список и познакомился с государственными делами и с нами, Законами, что если мы ему не нравимся, то ему предоставляется взять свое имущество и идти, куда он хочет, и если мы с городом кому-нибудь из вас не нравимся и пожелает кто-нибудь из вас ехать в колонию или поселиться еще где-нибудь, ни один из нас, Законов, не ставит ему препятствий и не запрещает уходить куда угодно, сохраняя при этом свое имущество. О том же из вас, кто остается, зная, как мы судим в наших судах и ведем в городе прочие дела, о таком мы уже говорим, что он на деле согласился с нами исполнять то, что мы велим; а если он не слушается, то мы говорим, что он втройне нарушает справедливость: тем, что не повинуется нам, своим родителям, тем, что не повинуется нам, своим воспитателям, и тем, что, согласившись нам повиноваться, он и не повинуется нам и не вразумляет нас, когда мы делаем что-нибудь нехорошо, и хотя мы предлагаем, а не грубо повелеваем исполнять наши решения и даем ему на выбор одно из двух: или вразумлять нас, или исполнять – он не делает ни того ни другого.
Дальше нас ждет диалог «Федон», где присутствующий при казни Сократа повествователь рассказывает Эхекрату о последнем дне приговоренного, о его прощальных словах перед принятием яда. Из этой части можно узнать подробнее, почему решение суда не было исполнено сразу же, почему Сократ был вынужден провести длительное время в темнице. Тут приводятся весьма любопытные рассуждения о самоубийстве, допустимо ли оно вообще и ответы древнегреческих мыслителей выглядят весьма забавными: ведь как раб не смеет лишать себя жизни, пока господин не повелит этого, так и человек не смеет сам проявлять самоволие. А далее мы узнаем о мыслях Сократа насчет смерти и почему философу легко расставаться с жизнью, ведь вся его деятельность направлена против тела, в сторону души. Именно вера в то, что физическая оболочка лишь мешает освобождению души, так как "органы чувств не обладают ни точностью, ни достоверностью" и лишь отвлекают от познания истины, и определяет отношение к смерти. В данной части очень много идеалистических рассуждений, «доказательств» бессмертия души, но как так мне эти идеи не близки, то было скучно читать многостраничные примеры из серии: раз сон противоположен бодрствованию, а мертвое появляется из живого, то, значит, душа не могла существовать прежде, чем появилась в человеке. Более того, по мнению древних философов, все наши знания это не последствия изучения, а лишь воспоминания о том, что было уже известно душе ранее. В подобных рассуждениях мне недоставало некоего критического взгляда (но откуда ему взяться в ту историческую эпоху с их представлениями о мире и науке), а то, что ученики Сократа ему лишь вторили, соглашаясь с каждой странной мыслью, только портило повествование (с другой стороны, не ждем же мы от доктора Ватсона спора с Шерлоком во время финальных откровений о преступлении, его миссия совсем не в этом).
Но вот, Кебет, какое положение кажется мне правильным: боги пекутся о нас, и мы, люди, являемся для богов одним из их достояний. Или ты на этот счет другого мнения?
— Я согласен с тобою, – сказал Кебет.
— Допустим, – продолжал Сократ, – что один из принадлежащих тебе рабов лишил бы себя жизни, хотя ты и не дал ему понять, будто желаешь его смерти. Не рассердился ли бы ты на него? Не подверг ли бы ты его, если бы мог, какому-нибудь наказанию?
— Разумеется, да, – отвечал Кебет.
— Следовательно, с этой точки зрения основателен, быть может, тот вывод, что лишать себя жизни следует не ранее того, как божество пошлет какую-либо настоятельную необходимость.Однако только что высказанная тобою мысль, будто философам легко желать себе смерти, похожа, Сократ, на нелепость, коль скоро мы только что признали логичным то положение, что божество печется о нас и что мы его достояние. Ведь было бы нелепо, если бы самые рассудительные люди не испытывали негодования, уходя от такого попечения, в котором руководствуют ими наилучшие из всех существующих руководителей – боги. Или такие люди думают, что, став свободными, они будут заботиться сами о себе лучше? Безрассудный человек, пожалуй, подумает, что это так, что должно убежать от своего господина. И так как он не в состоянии сообразить, что от добра нечего убегать, что, напротив, нужно предпочтительно оставаться при нем, то такой человек, по неразумию своему, пожалуй, и убежит. Но человек, разум имеющий, всегда будет стремиться оставаться при том, кто лучше его.
— А как насчет приобретения рассудительности? Тело служит ли, или не служит препятствием, коль скоро приобщить его к исканию рассудительности? Я поясню это таким примером: имеют ли зрение и слух для людей некоторую достоверность, или правы поэты, которые постоянно твердят нам о том, что мы ничего в точности не слышим и не видим? Если эти органы чувств не обладают ни точностью, ни достоверностью, то едва ли обладают ими остальные органы чувств, ибо все они слабее, чем зрение и слух. Или ты с этим не согласен?
— Совершенно согласен, – сказал Симмий.
— А когда же душа соприкасается с истиною? – спросил Сократ. – Ведь ясно, что, когда она вместе с телом и пытается что-нибудь рассмотреть, тело вводит ее в заблуждение.
— Совершенно верно.
— Таким образом, не разъясняется ли для души нечто из сущего преимущественно тогда, когда она рассуждает?
— Да.
— Рассуждает же душа, разумеется, лучше всего тогда, когда ничто ее не смущает – ни зрение, ни слух, ни страдание, ни наслаждение какое-либо, – когда она, простившись с телом, становится сама собою и по мере возможности, не общаясь и не соприкасаясь с телом, стремится к сущему.
— Это так.
— Не тогда ли душа философа относится с полным презрением к телу, избегает его и стремится стать сама собою?
— По-видимому, да.— Рассуждает же душа, разумеется, лучше всего тогда, когда ничто ее не смущает – ни зрение, ни слух, ни страдание, ни наслаждение какое-либо, – когда она, простившись с телом, становится сама собою и по мере возможности, не общаясь и не соприкасаясь с телом, стремится к сущему.
— А не выполнит ли эту задачу чище всего тот, кто подойдет к каждой вещи путем размышления о ней, причем при размышлении не будет прибегать к помощи зрения, не будет привлекать никакого другого органа чувств наряду с размышлением; кто посредством чистого размышления самого по себе постарается уловить чистую сущность каждой вещи самой по себе, причем совершенно освободится от помощи глаз, ушей, от всего, так сказать, телесного, как от чего-то такого, что, при своем общении с душою, волнует ее, не дает ей возможности добиться истины и рассудительности? Если кому возможно, Симмий, постигнуть сущее, то не такому ли именно человеку?
— Следовательно, – продолжал Сократ, – у истинных философов, в силу всего этого, должно неизбежно образоваться представление, которое они могли бы высказать во взаимной беседе примерно так: «И в самом деле, по-видимому, какая-то непроходимая тропа удаляет нас и мы никогда не сможем в достаточной мере достигнуть того, к чему стремимся и что мы называем истиной, пока у нас будет тело и пока к душе будет примешано это зло. И в самом деле, тело создает для нас бесчисленные препятствия из-за необходимости питать его; а если, сверх того, постигнут нас еще какие-либо болезни, то они мешают нам стремиться к сущему. Тело наполняет нас вожделениями, страхами, всякого рода призраками, пустяками. И правильно говорят, что, действительно, из-за тела нам никогда не удается ни о чем даже поразмыслить. Только тело и присущие ему страсти порождают войны, восстания, бои; ибо все войны ведутся из-за приобретения денег, а деньги мы вынуждены приобретать ради тела, рабствуя пред уходом за ним.
Далее следует глава «Федр», где Сократ беседует о любви, о пользе и вреде влюблённости. Причем в данной части занимательно послушать оба противоположных мнения, ведь некто Лисий создал трактат на тему того, что дружба лучше любви, а Сократ, одновременно соглашаясь с ним, все же защищает неистовство, свойственное влюбленным, а так же прорицателям и тем, кого боги наделили этим состоянием. Тут тоже идет размышление о душе, которой боги одарили людей, о крыльях, которые душа теряет, падает на землю и вынуждена на протяжении 10 тысяч лет оставаться прикованной к ее твердыне ( если, конечно, душа не окрылится раньше срока, будучи искренне влюбленной в мудрость и в юношей). Так же в этой части приводятся интересные подробности о правильном составлении речей, об ораторском искусстве, которое далеко не всегда связано с истиной, а также рассказывается, что для Сократа есть диалектика.
Федр. Здесь, дорогой мой, ты попался в ту же ловушку! Говори как умеешь, больше тебе ничего не остается, иначе нам придется, как в комедиях, заняться тяжким делом препирательств. Поберегись и не заставляй меня повторить твой же прием: «если я, Сократ, не знаю Сократа, то я забыл и самого себя» или «он хотел говорить, но ломался». Сообрази, что мы отсюда не уйдем, прежде чем ты не выскажешь того, что у тебя, как ты выразился, в груди. Мы здесь одни, кругом безлюдье, я посильнее и помоложе – по всему этому внемли моим словам и не доводи дела до насилия, говори лучше по доброй воле!
Сократ. Но, милый Федр, не смешно ли, если я, простой человек, стану вдруг наобум состязаться с настоящим творцом!Закон же Адрастеи таков: душа, ставшая спутницей бога и увидевшая хоть частицу истины, будет благополучна вплоть до следующего кругооборота, и, если она в состоянии совершать это всегда, она всегда будет невредимой. Когда же она не будет в силах сопутствовать и видеть, но, постигнутая какой-нибудь случайностью, исполнится забвения и зла и отяжелеет, а отяжелев, утратит крылья и падет на землю, тогда есть закон, чтобы при первом рождении не вселялась она ни в какое животное. Душа, видевшая всего больше, попадает в плод будущего поклонника мудрости и красоты или человека, преданного Музам и любви; вторая за ней – в плод царя, соблюдающего законы, в человека воинственного или способного управлять; третья – в плод государственного деятеля, хозяина, добытчика; четвертая – в плод человека, усердно занимающегося упражнением или врачеванием тела; пятая по порядку будет вести жизнь прорицателя или человека, причастного к таинствам; шестой пристанет подвизаться в поэзии или другой какой-либо области подражания; седьмой – быть ремесленником или земледельцем; восьмая будет софистом или демагогом; девятая – тираном. Во всех этих призваниях тот, кто проживет, соблюдая справедливость, получит лучшую долю, а кто ее нарушит – худшую.
Но туда, откуда она пришла, никакая душа не возвращается в продолжение десяти тысяч лет – ведь она не окрылится раньше этого срока, за исключением души человека, искренне возлюбившего мудрость или сочетавшего любовь к ней с влюбленностью в юношей: эти души окрыляются за три тысячелетних круговорота, если три раза подряд изберут для себя такой образ жизни, и на трехтысячный год отходят. Остальные же по окончании своей первой жизни подвергаются суду, а после приговора суда одни отбывают наказание, сошедши в подземные темницы, другие же, кого Дике облегчила от груза и подняла в некую область неба, ведут жизнь соответственно той, какую они прожили в человеческом образе. На тысячный год и те и другие являются, чтобы получить себе новый удел и выбрать себе вторую жизнь – кто какую захочет.
Федр. Как, как ты говоришь?
Сократ. Тем, кто доискивается, можно, по-моему, разъяснить это так: обмануться легче при большой или при малой разнице между вещами?
Федр. При малой.
Сократ. Переход к противоположности разве не будет менее заметен, если его совершать постепенно, чем если резко?
Федр. Как же иначе?
Сократ. Значит, кто собирается обмануть другого, не обманываясь сам, тот должен досконально знать подобие и неподобие всего существующего.
Федр. Это необходимо.
Сократ. А может ли тот, кто ни об одной вещи не знает истины, различить сходство непознанной вещи с другими вещами, будь оно малым или большим?
Федр. Это невозможно.
Сократ. Значит, ясно: у тех, кто имеет неверные мнения о существующем и поддается обману, причина их беды – какое-то подобие между вещами.
Федр. Да, так бывает.
Сократ. Может ли быть, чтобы тот, кто всякий раз уводит от бытия к его противоположности, сумел искусно делать постепенные переходы на основании подобия между вещами? И сам он избежит ли ошибки, раз он не знает, что такое та или иная вещь из существующих?
Федр. Этого никак не может быть.
Сократ. Значит, друг мой, кто не знает истины, а гоняется за мнениями, у того искусство речи будет, видимо, смешным и неискусным.
Федр. Пожалуй, так.Сократ. Значит, тот, кто намерен заняться ораторским искусством, должен прежде всего произвести правильное разделение и уловить, в чем признак каждой его разновидности – и той, где большинство неизбежно блуждает, и той, где этого нет.
Сократ. Эти две речи были противоположны друг другу. В одной утверждалось, что следует угождать влюбленному, в другой – что невлюбленному.
Федр. И очень решительно утверждалось.
Сократ. Я думал, ты скажешь «неистово» – это было бы правдой, как раз этого я и добивался: ведь мы утверждали, что любовь есть некое неистовство. Не так ли?
Федр. Да.
Сократ. А неистовство бывает двух видов: одно – следствие человеческих заболеваний, другое же – божественного отклонения от того, что обычно принято.
Федр. Конечно, так.
Сократ. Божественное неистовство, исходящее от четырех богов, мы разделили на четыре части: вдохновенное прорицание мы возвели к Аполлону, посвящение в таинства – к Дионису, творческое неистовство – к Музам, четвертую же часть к Афродите и Эроту – и утверждали, что любовное неистовство всех лучше. Не знаю, как мы изобразили любовное состояние: быть может, мы коснулись чего-то истинного, а возможно, и уклонились в сторону, но, добавив не столь уж неубедительное рассуждение, мы с должным благоговением прославили в сказочном гимне моего и твоего, Федр, владыку Эрота, покровителя прекрасных юношей.…все, что мы там случайно наговорили, – двух видов, и суметь искусно применить их возможности было бы для всякого благодарной задачей.
Федр. Какие это виды?
Сократ. Первый – это способность, охватывая все общим взглядом, возводить к единой идее то, что повсюду разрозненно, чтобы, давая определение каждому, сделать ясным предмет поучения. Так поступили мы только что, говоря об Эроте: сперва определили, что он такое, а затем, худо ли, хорошо ли, стали рассуждать; поэтому-то наше рассуждение вышло ясным и не противоречило само себе.
Федр. А что ты называешь другим видом, Сократ?
Сократ. Второй вид – это, наоборот, способность разделять всё на виды, на естественные составные части, стараясь при этом не раздробить ни одной из них, как это бывает у дурных поваров: так, в обеих наших недавних речах мы отнесли неразумную часть души к какому-то одному общему виду. Подобно тому как в едином от природы человеческом теле имеются две одноименные части, лишь с обозначением «левая» или «правая», так обстоит дело и с состоянием безумия, которое обе наши речи признали составляющим в нас от природы единый вид, но одна речь выделила из него часть, обращенную налево, и не остановилась на этом делении, пока не нашла там некую так называемую левую любовь, которую вполне справедливо и осудила; другая же наша речь ведет нас к правой части неистовства, одноименной с первой, и находит там некую божественную любовь, которой отдает предпочтение, и восхваляет ее как причину величайших для нас благ.
Федр. Ты говоришь в высшей степени верно.
Сократ. Я, Федр, и сам поклонник такого различения и обобщения – это помогает мне рассуждать и мыслить. И если я замечаю в другом природную способность охватывать взглядом единое и множественное, я гоняюсь
Следом за ним по пятам, как за богом.
Правильно ли или нет я обращаюсь к тем, кто это может делать, знает бог, а называю я их и посейчас диалектиками.В зарисовке «Софист» Сократ уже не является главным героем, он тут лишь наблюдатель за диалогом некого чужеземца и Теэтета, которые размышляют, что есть софистика и кто такой софист, но при этом начинают настолько издалека и обсуждают столь скучные вещи, что эта часть сборника воспринималась достаточно трудно. На примере рыбака они выясняют, что есть искусства, что все искусства распадаются на приобретающие и творческие, что охота тоже распадается на две части: ловля сетями и посредством удара, что часть ударной охоты, происходящей ночью при свете огня, называется огневой и прочие странные умозаключения. При этом один беседующий ведет разговор, другой лишь ему поддакивает, что делает данный диалог весьма унылым.
Последняя прочитанная мною часть называется «Пир» и, возможно, она самая известная, так как именно тут рассказывается история о половинках: о том, что раньше люди были трех полов, что тело было круглое, было два лица, рук и ног было по четыре, о том, как боги, желая обезопасить себя от этих существ, разделили их и теперь главная цель людей найти свою половинку. Как и в других частях сборника, тут превозносятся отношения между мужчинами, а вот влечение к противоположному полу скорее признак блуда и распутства. Вот только, на мой взгляд, странно, что именно любовь к мальчикам и юношам описывается как нечто идеальное, причем герои данного повествования наилучшей считают связь с тем мальчиком, в ком уже «обнаружился разум, а разум появляется обычно с первым пушком». А что же будет с этим юношей, когда пора его молодости пройдет? Он перестанет быть идеальным партнером, раз не юн? В общем, данная часть про любовь вызывала у меня некий диссонанс, хотя и понимаешь, что написано это в совсем иные времена, с отличной от современной моралью, все же читать было сложновато. Все эти разговоры о поклонниках и кто кому должен уступить, об Эроте и его двойственности, а также о вине и излишне выпитом заставили меня сильно обрадоваться, когда наконец наступил финал данной книги.
Подводя итог, не все части данного произведения мне понравились, но все же в целом книга Платона оставила приятное впечатление, ведь она дает возможность поразмышлять об интересных философских вопросах, так что могу рекомендовать ее любителям литературы Древнего мира.
924,8K MaksimKoryttsev10 октября 2025 г.
MaksimKoryttsev10 октября 2025 г.Когда позор хуже смерти, или немного о безкорыстии и его отсутствии
Читать далееЕсть у меня серьёзные пробелы в личном знакомстве как со многими художественными произведениями, так и текстами классической западной философии. Например, из всех сочинений Платона ничего полностью мне прочесть не удалось, кроме нескольких небольших отрывков из его Государства и ряда диалогов.
Этот его небольшой диалог прочитал сейчас полностью. Он о последних днях жизни Сократа, когда его друг Критон пришёл, чтобы упросить его согласиться сбежать из афинской тюрьмы. В ней Сократ ожидал скорой казни по приговору суда.
Помню, как меня, знакомого по хрестоматийным пересказам с судьбой Сократа, возмущала несправедливость этого приговора и вызывало недоумение, почему Сократ отказался бежать из тюрьмы. Как раз в этом диалоге содержится исчерпывающий ответ на этот вопрос.
Не хочется спойлерить и пересказывать здесь доводы Сократа - основное содержание этого текста-диалога. Совсем кратко ответ зашифрован в заголовке этого отзыва, но конечно, его ясно не понять без чтения текста или дополнительных разъяснений.
Отмечу ещё и то, что в начале диалога Критон, пытаясь убедить Сократа в необходимости побега, уверяет того, что Критона и других друзей Сократа после его смерти будут упрекать в том, что они не попытались его спасти. Собственно и возражения Сократа начинаются здесь с того, что на суждения толпы разумному человеку не следует обращать большого внимания. Меня же тут в свою очередь неприятно удивило, что Критон в своих размышлениях о необходимости бегства Сократа, говорит как его будет беспокоить ущерб своей собственной репутации при этом. Но если ты действительно ценишь другого, разве так важно, что с тобою произойдет, когда ты хочешь помочь ему, своему близкому? Вопрос риторический. Критон же и в этом благородном деле помощи другу как-то по привычке считает собственную выгоду или возможный ущерб.
87333 TibetanFox3 октября 2013 г.Читать далее
TibetanFox3 октября 2013 г.Читать далееВсё-таки Сократ невообразим. Кому бы ещё пришло в голове защищаться в суде не какими-то конкретными фактами, а чисто теоретическими рассуждениями и силлогизмами? Правда, в то время вообще судебная система была ещё хлеще, чем теперешняя, чего стоит только манера нарочно приводить в грязный и жалкий вид свою родню, особенно детей и стариков, чтобы притащить их на суд, где бы они падали в ножки судье и со слезами и соплями умоляли его простить кормильца, иначе кто их будет кормить? А вот не притащил своих спиногрызов, обмазанных навозом, и вышел моветон, так не принято. И ничего, что на самом деле ты человека убил, а женушка с сыновьями лопают не иначе как из серебряных тарелок, главное — зрелище.
Сократ даёт зрелище совсем другого рода, не зря Платон в своей "Апологии..." неоднократно его устами выдаёт просьбу толпе заткнуться. Вообще интересно, насколько точно Платон описал эту речь и суд — до Ксенофонта и его версии "Апологии Сократа" я пока ещё не добралась. В отличии от диалогов, где Сократ хоть и люто троллирует, но всё же ведёт себя достаточно скромно, здесь он выступает весьма самоуверенно и даже нагловато. Например, когда его спрашивают, к чему бы он сам себя приговорил, то Сократ ничтоже сумняшеся отвечает, что заслуживает вкусного и обильного хавчика. Спетросянил, конечно, ловко, но это выглядит не иначе, как неуважение к суду. Тем более, что его выслушивает не один судья, а несколько сотен человек (голосование большинством голосов, да!) Кстати, очень крутой момент, что если жалобщик не набирал определённого количества голосов в поддержку своего иска, то сам огребал штраф и далее не допускался к тому, чтобы с кем-от судиться. Нечего!
Непонятно, почему Сократ выбрал именно такой способ защиты. Его речи мудры, но с обвинением связаны скорее косвенно, чем напрямую. Может быть, он действительно был не прочь завершить свой путь в семьдесят лет, но уйти при этом красиво. В любом случае, почитать эту его последнюю песнь в перепевке Платона полезно. По крайней мере, чтобы хотя бы чуть-чуть рассеять собственную спесь.
532,2K TibetanFox16 октября 2013 г.Читать далее
TibetanFox16 октября 2013 г.Читать далееУ "Критона" сюжет едва ли не детективный. Все мы помним, что Сократ был осужден на смерть, так вот: действие разворачивается в тот момент, когда он сидит в тюрячке и ждёт, когда к нему придёт чёрный вестник, любезно несущий новости о том, что "пора, брат, пора". Не прокатило-таки предложение заменить наказание вкусной нямкой, что поделать. И вот к Сократу приходит дружбан Критон и говорит, что посидели и хватит, пора в лучших традициях приключенческой литературы из тюрьмы сбежать. Ну чем не традиционное начало ролевушечки в AD&D? Однако Сократ сливает партию, потому что бежать он не собирается, более того, он убеждает Критона, что бежать в данной ситуации было бы хуже смерти. Так-то просто помрёт его старое тело, а тут умрёт все его уважение к себе, а моральные принципы и суть его учения вообще скатится в глубокую лужу. То бишь, сбеги он сейчас, значит, всю жизнь Сократ прожил зря.
А теперь кратенько о том, почему-таки не бежал Сократ. В "Апологии Сократа" он весьма активно себя защищал, хоть это и не принесло успеха. Почему же теперь бы не бежать из того города, который тебя несправедливо осудил? Да потому что таковы правила игры. Сократ утверждает (и мы волей-неволей вспоминаем категорический императив Канта), что уже если он сам решил повиноваться законам государства, если участвовал в суде, то он просто обязан подчиниться решению властей, даже будь оно тысячу раз неправильным. Если правила игры определены и установлены, ты под ними подписался, то нарушать их нельзя. Ведь если сбежит Сократ, значит, он считает неправильно работающей всю систему государственных законов, значит, могут сбегать и все остальные осужденные, большая часть которых таки настоящие преступники — убийцы, воры, насильники. при таком раскладе совершенно неудивительно восприятие факта заключения Сократа, как выражения его внутренней свободы. Можно сказать, что он как раз заключением и смертью свою свободу и выразил. Убежать = предать свои убеждения, значит, вся философия Сократа оказалась бы лишь напускной фальшью, которая при виде опасности схлопывается в никуда.
Не знаю, был ли этот диалог на самом деле. Вполне возможно, что Платон написал его в отчаянии, когда система полисов, раньше казавшаяся весьма изящной, начала сбоить. И хотя бы руками мёртвого Сократа её стоило попытаться склеить.37902 Anthropos20 мая 2017 г.Читать далее
Anthropos20 мая 2017 г.Читать далееЕсли прочитанные ранее три диалога особо ничего нового не сказали мне о Сократе и его учении, то вот этот диалог удивил. В нем Платон рассказывает о последних часах жизни Сократа и приводит последнюю его беседу с друзьями и учениками. Я до сих пор слабо понимаю, где в диалогах мысли Сократа, а где Платона, потому буду считать все озвученные в этом диалоге идеи сократовскими.
Начинается диалог достаточно сюрреалистично: Сократ радуется приближающейся смерти, ученики скорбят, лучший друг Критон беспокоится, не повредит ли многоречивость друга действию яда. Затем Сократ начинает пояснять, почему он не боится смерти, и убеждать сомневающихся учеников в бессмертии души.
Во время чтения у меня постоянно в голове звучал знаменитый монолог Гамлета («Быть или не быть»), которому Сократ как бы возражает. Для мудреца все очевидно – не быть здесь, а быть там. Сократ полагает, что ожидающее его за смертной чертой намного прекраснее жизни и потому радостно принимает положенное. Что Сократ считал душу бессмертной, я знал и ранее. Неожиданностью для меня стали его слова о реинкарнации. Он считает, что любая душа после смерти попадает в Аид, а впоследствии снова воплощается в теле. Причем, не обязательно человеческом. При этом Сократ совершенно уверен, что душам философов «грозит» самая благая участь – они сразу становятся богами. Такая вот гарантия будущего. И никаких: «Когда бы неизвестность после смерти». При этом самоубийство он осуждает, хотя особо на эту тему не говорит.
Известно, что у древних греков Аид не был похожим на христианский ад. Впрочем, у них существовали разные точки зрения о том, кто куда должен попадать. Сократ также придерживается одной из них, согласно которой добродетельные получают блага, а души нечестивцев отправляются в Тартар. Как именно эта концепция сочетается с перевоплощением, я не очень понял. Наиболее интересной мне показалась другая мысль: души слишком сильно себя запятнавшие земной жизнью некоторое время не могут вообще никуда попасть и задерживаются на Земле, не до конца теряя телесность (так Сократ говорит о призраках).
Любопытна также деталь, как Сократ представляет жизнь своих друзей после своей смерти. Если Христос перед вознесением напутствовал учеников: «Идите, научите все народы», то Сократ рекомендует не только учить, но и искать тех, у кого можно научиться. По мне, второй подход более верный.
Хотя большая часть диалога посвящена доказательствам бессмертия (весьма любопытным), Сократ довольно много успевает сказать (и о строении Вселеной, и о своем пути к познанию, и о свойствах вещей). После же всего принимает яд, причем еще до захода солнца, так как медлить ему незачем. Поразительная, на мой взгляд, деталь – последняя просьба принести Асклепию в жертву петуха, что означает выздоровление, хотел бы я быть таким же оптимистом, как Учитель.Хотя я практически ни с чем не согласен, диалог меня сильно впечатлил, а рассуждения действительно понравились. Начну чтение второй тетралогии.
365,9K Anapril3 декабря 2025 г.
Anapril3 декабря 2025 г.Добродетель - это...
Читать далееКонечно, это не трансперсональная психология Маслоу, которая упорядочит ценности в иерархическом порядке — с ними и связываются добродетели. Поначалу — многие, от чего Сократ хочет уйти. Впрочем, у Маслоу есть иерархия потребностей, а не ценностей, но ведь почти каждая потребность потенциально может стать определяющей ценностью человека. И это можно увидеть на пирамиде наглядно и, что немаловажно, иерархически.
Платону, а точнее, Сократу вменяется в достижение, ещё раз подтверждающее мудрость диалогов с его участием, что его выводы совпадают с теми, которые можно сделать, глядя на пирамиду Маслоу хотя бы в том, что высшими ценностями являются духовные (познавательный интерес, реализация истинного предназначения и собственно духовные поиски, и всё это - на основе развитой морально-нравственной сферы) и эстетические ценности (о последнем говорит упоминание поэтов, боговдохновенных прорицателей и провидцев), без которых никакие успехи и материальные блага не сделают человека... каким?... добродетельным? Пускай будет так, тем более, что в греческом языке слово "добродетель" имеет более широкое значение, чем в нашем (это я узнала от Грэма Хармана из "Объектно-ориентированной онтологии...", где есть глава, посвящённая этому произведению, а точнее взятым из него идеям).
Так вот если тут интуиция Сократа, как водится, не подвела, то в остальном, с точки зрения той же гуманистической психологии, выводы Сократа попадают под неумолимые данные этого направления в психологии, которые оспорят божественность оных ценностей (Сократ считает их не данными от природы и не приобретёнными — им нельзя научить), но при этом божественность наблюдается в том, что на уровне этих ценностей человек особенно акцентирует внимание на духовных поисках.
По поводу того, что им нельзя научить тоже можно и нужно поспорить. Поскольку ребёнок становится порядочным на основании примера значимого человека, который ведёт себя порядочно а также на основании воспитания такого человека. Это по поводу моральной стороны. Но и во всём остальном, что было перечислено выше — то же самое.
Диалоги Платона я неизменно начинаю читать со смехом и скепсисом, постепенно делаясь серьёзной. Они действительно смешны, немного наивны, но и довольно мудры. Тем более не надо забывать, что это философия, где логика покоится на интуиции. На припоминании (как сказал бы Сократ)... да...
Кроме этого Сократ успевает нам преподать урок ведения диалога/спора, сначала пресекая самоуверенность Менона, который не столько знал, сколько питал иллюзию на этот счет, по сути даже никогда серьёзно не задумываясь над вопросом. И — позже — в диалоге с Анитом, который имел твёрдое негативное суждение о том, чего не знает.
И, наконец, не менее важно в этих диалогах указание на не меньшую ценность мнения, которое он называет истинным по сравнению с разумом, основанном на знании. Иными словами, знание может быть интуитивным и при этом правильным, и, уж точно, когда это касается "высоких материй", окончательными знаниями о которых никто не владеет...
31152 TibetanFox1 декабря 2013 г.Читать далее
TibetanFox1 декабря 2013 г.Читать далееГде-то однажды появился на свет
Со спором и дискуссией софист, каких нет
И тут же сбежал на античный простор,
Великий учитель, мудрец Протагор.
Протагор, Протаго-ор. Единственный в мире софист Протагор.
Его все признали в городе родном,
Но Сократ его шпыняет и ночью, и днём.
Не стоит огорчаться, не стоит робеть,
А лучше эту песенку вместе пропеть:
Протагор, Протаго-ор. Единственный в мире софист Протагор.Эта песенка в качестве эпиграфа не только потому, что слово "Протагор" можно удобно подставить в песенку из мультика про котопса. Когда читаешь диалог "Протагор", то создаётся впечатление, что он точно так же, как это выдуманное безумными мультипликаторами существо, соткан из разнородных кусочков, причём далеко не все швы смотрятся хорошо. Однако вычленить главную идею и тему из диалога всё же можно, если выпутаться из постоянно перепрыгивающего с пятого на десятое повествования и охватить взглядом всю картину целиком. Больше всего текста в диалоге уделено проблеме добродетели... Ну и заодно Сократ не упускает случая, чтобы люто затроллить софистов, ведь Протагор как раз из их числа. Достаётся ему по полной.
Впрочем, не стоит быть уверенным, что после прочтения диалога мы сможем точно определить понятие "добродетели" - учитывая, что даже слово "добродетель" является сомнительным и неоднозначным переводом. Платон устами Сократа оставляет нам куда больше вопросов, чем даёт ответов.
"Протагором" завершается ранний период диалогов Платона. Если до этого они были довольно прозрачные и однозадачные, то теперь уровень и количество рассматриваемых проблем расширится. Что ж, будем ждать.
29799 olastr5 июня 2021 г.
olastr5 июня 2021 г.Блуждание души и греческая риторика
Милый Пан и другие здешние боги, дайте мне стать внутренне прекраснымЧитать далееПеречитала платоновского «Федра», потому что столкнулась с ним при чтении другой книги, решила освежить для лучшего понимания контекста. Оказалось, что не помню этот диалог абсолютно, потому что в самом начале совершенно наивно попала в ловушку, когда Сократ важно рассуждал о том, почему лучше уступить нелюбящему, чем любящему. Когда он развернулся на 180 градусов, я с облегчением вздохнула, потому что все встало на свои места: Платон мне запомнился боговдохновенным и неистовым.
Неистовость Платона проявляется в центральном пассаже о душе, ищущей истину, которой нет на земле, и лишь в красоте воплощается ее подобие. И ей, душе, ничего не остается как влюбиться в эту красоту чистой и бескорыстной любовью. И от такой любви обретает душа крылья и становится видящей и стремящейся к благу.
Признаться, кроме этого пассажа, все остальное довольно нудно. Помимо души и любви этот диалог касается также риторики. Сократ осуждает ораторов, которые говорят, что искусство риторики не требует знания истины, достаточно лишь быть правдоподобным, чтобы увлекать толпу и убеждать суд (риторика была важна, потому что использовалась в судах и именно там она приобретала свои сомнительные качества). Сократ говорит, что без истины и блага нет истиной риторики, а чтобы не погрешать против истины, нужно использовать диалектику и слушаться богов, и «только в речах назидательных, произносимых ради поучения и воистину начертываемых в душе, в речах о справедливости, красоте и благе есть ясность и совершенство, стоящие стараний».
Тут лично для меня вылезает библейское «что есть истина», и можно ли ее познать диалектически, но на этом диалог заканчивается и Федр с Сократом идут от источника, осененного музами, по своим делам. Словечко про Федра, именем которого назван диалог: он не что иное, как живая декорация для красноречия Сократа, и вся его роль – время от времени вставлять реплику для связки высказываний мудреца, что характерно для всех диалогов Платона, где главный оратор Сократ (или псевдо-Сократ, за которым автор скрывает свою скромную персону). Хотя диалогу, повествующему о праведной любви к красавцам, присутствие молодого красавца придает неподражаемую живость.
В целом, этот диалог важен для понимания ключевых моментов философии Платона описанием блужданий бессмертной души, отбившейся от источника и обреченной на скитания, до тех пор пока она не припомнит свой божественный исток. Увлекательным чтением его не назовешь, потому что, помимо сути, в нем полно «гимнасической» нудятины, перечислений греческих болтунов всех времен (понятно, откуда пошла западная академическая традиция), похвал богам и музам. И да не плюнут в меня поклонники греческой классической философии, сколько бы их ни осталось: я не специалист, а значит, выражаю точку зрения профаническую, и потому достойна снисхождения хотя бы за мое неразумие.
251,1K antonrai24 декабря 2014 г.Они, повторяю, не сказали ни слова правды, а от меня вы услышите ее всю.Читать далее
antonrai24 декабря 2014 г.Они, повторяю, не сказали ни слова правды, а от меня вы услышите ее всю.Читать далееЖил-был Сократ и ходил он по Афинам и допытывался у людей, слывущих мудрыми, в чем их мудрость и оказывалось, что мудрости у них нет, а есть одна лишь видимость мудрости. Долго терпели Сократа афиняне, но под конец разозлились, приговорили к смерти и убили, дав тем самым финальное доказательство своей глупости, а Сократу – бессмертие.
Но вот уже время идти отсюда, мне – чтобы умереть, вам – чтобы жить, а кто из нас идет на лучшее, это ни для кого не ясно, кроме бога.251,2K antonrai8 мая 2017 г.
antonrai8 мая 2017 г.Неудачная майевтика Сократа
Читать далее«У меня к тебе вопрос, как к философу. Как именно ты объясняешь себе смысл вот этого мега знаменитого изречения Сократа "Я знаю, что я ничего не знаю"? BeatriceBelial
Да ответ - как философ:) Ну, тут, слава небу, не приходится особенно гадать, так как Сократ через посредство Платона высказался на этот счет достаточно пространно. Во-первых, в «Апологии Сократа» и, во-вторых, в «Теэтете». Я, пожалуй, начну со второго, потому как здесь ситуация проще, ну или понятнее. В «Теэтете» Сократ выступает как своего рода идеальная критическая способность – сам он ничего не знает, зато знает, когда «знает» или «не знает» кто-то другой. То есть кто-то говорит (высказывает нечто, претендующее на звание Истины), а Сократ выступает как высшая критически-проверяющая инстанция – и, если уж и Сократ не может раскритиковать говорящего, значит, тот говорит действительно дело. В любом случае такое критическое, но благожелательное (так как это не критика ради критики, но ради поиска Истины) давление оказывает благотворное воздействие на способность рассуждать. Этот метод еще образно называется «майевтикой» или родовспоможением мысли, - и я не вижу ничего плохого в том, чтобы (не-)лишний раз процитировать соответствующий отрывок:
«Сократ. Таково ремесло повитухи, однако моему делу оно уступает. Ибо женщинам не свойственно рожать иной раз призраки, а иной раз истинное дитя, а вот это распознать было бы нелегко. Если бы это случалось, то великая и прекрасная обязанность – судить, истинный родился плод или нет, стала бы делом повитух. Или ты не находишь?
Теэтет. Нахожу.
Сократ. В моем повивальном искусстве почти все так же, как и у них, – отличие, пожалуй, лишь в том, что я принимаю у мужей, а не у жен и принимаю роды души, а не плоти. Самое же великое в нашем искусстве – то, что мы можем разными способами допытываться, рождает ли мысль юноши ложный призрак или же истинный и полноценный плод. К тому же и со мной получается то же, что с повитухами: сам я в мудрости уже неплоден, и за что меня многие порицали, – что-де я все выспрашиваю у других, а сам никаких ответов никогда не даю, потому что сам никакой мудрости не ведаю, – это правда. А причина вот в чем: бог понуждает меня принимать, роды же мне воспрещает. Так что сам я не такой уж особенный мудрец, и самому мне не выпадала удача произвести на свет настоящий плод – плод моей души. Те же, что приходят ко мне, поначалу кажутся мне иной раз крайне невежественными, а все же по мере дальнейших посещений и они с помощью бога удивительно преуспевают и на собственный и на сторонний взгляд. И ясно, что от меня они ничему не могут научиться, просто сами в себе они открывают много прекрасного, если, конечно, имели, и производят его на свет. Повития же этого виновники – бог и я. И вот откуда это видно: уже многие юноши по неведению сочли виновниками всего этого самих себя и, исполнившись презрения ко мне, то ли сами по себе, то ли по наущению других людей ушли от меня раньше времени. И что же? Ушедши от меня, они и то, что еще у них оставалось, выкинули, вступивши в дурные связи, и то, что я успел принять и повить, погубили плохим воспитанием. Ложные призраки стали они ценить выше истины, так что в конце концов оказались невеждами и в собственных и в чужих глазах». (Теэтет)Это что касается «во-вторых», а теперь я вернусь к «во-первых», то есть к «Апологии Сократа». А там все чуть сложнее, а, следовательно, и интереснее. Смысл в том, что Сократ хочет узнать, кто и что вообще знает, и оказывается, что никто и ничего:) В его «Я знаю, что я ничего не знаю» больше всего иронии в отношении всех тех, кто вроде бы точно «знает». Сократ просто и хочет узнать, что же они такое знают. Далее я предоставляю слово самому Сократу, хотя цитата из «Апологии Сократа» и довольно длинная, но зато и объяснительно-исчерпывающая, а потом я еще кратко прокомментирую его слова, потому что тут возникают некоторые нюансы, которых нет в «Теэтете». И вообще метод Сократа тут предстает в несколько ином свете. Итак, сначала длинная-предлинная цитата:
И вы не шумите, О мужи афиняне, даже если вам покажется, что я говорю несколько высокомерно; не свои слова буду я говорить, а сошлюсь на слова, для вас достоверные. Свидетелем моей мудрости, если только это мудрость, и того, в чем она состоит, я приведу вам бога, который в Дельфах. Ведь вы знаете Херефонта. Человек этот смолоду был и моим, и вашим приверженцем, разделял с вами изгнание и возвратился вместе с вами. И вы, конечно, знаете, каков был Херефонт, до чего он был неудержим во всем, что бы ни затевал. Ну вот же, приехав однажды в Дельфы, дерзнул он обратиться к оракулу с таким вопросом. Я вам сказал не шумите, о мужи! Вот он и спросил, есть ли кто-нибудь на свете мудрее меня, и Пифия ему ответила, что никого нет мудрее. И хотя сам он умер, но вот брат его засвидетельствует вам об этом. Посмотрите теперь, зачем я это говорю; ведь мое намерение – объяснить вам, откуда пошла клевета на меня. Услыхав это, стал я размышлять сам с собою таким образом: что бы такое бог хотел сказать и что это он подразумевает? Потому что сам я, конечно, нимало не сознаю себя мудрым; что же это он хочет сказать, говоря, что я мудрее всех? Ведь не может же он лгать: не полагается ему это. Долго я недоумевал, что такое он хочет сказать; потом, собравшись с силами, прибегнул к такому решению вопроса: пошел я к одному из тех людей, которые слывут мудрыми, думая, что тут-то я скорее всего опровергну прорицание, объявив оракулу, что вот этот, мол, мудрее меня, а ты меня назвал самым мудрым. Ну и когда я присмотрелся к этому человеку – называть его по имени нет никакой надобности, скажу только, что человек, глядя на которого я увидал то, что я увидал, был одним из государственных людей, о мужи афиняне, – так вот, когда я к нему присмотрелся (да побеседовал с ним), то мне показалось, что этот муж только кажется мудрым и многим другим, и особенно самому себе, а чтобы в самом деле он был мудрым, этого нет; и я старался доказать ему, что он только считает себя мудрым, а на самом деле не мудр. От этого и сам он, и многие из присутствовавших возненавидели меня. Уходя оттуда, я рассуждал сам с собою, что этого-то человека я мудрее, потому что мы с ним, пожалуй, оба ничего в совершенстве не знаем, но он, не зная, думает, что что-то знает, а я коли уж не знаю, то и не думаю, что знаю. На такую-то малость, думается мне, я буду мудрее, чем он, раз я, не зная чего-то, и не воображаю, что знаю эту вещь. Оттуда я пошел к другому, из тех, которые кажутся мудрее, чем тот, и увидал то же самое; и с тех пор возненавидели меня и сам он, и многие другие.
Ну и после этого стал я уже ходить по порядку. Замечал я, что делаюсь ненавистным, огорчался этим и боялся этого, но в то же время мне казалось, что слова бога необходимо ставить выше всего. Итак, чтобы понять, что означает изречение бога, мне казалось необходимым пойти ко всем, которые слывут знающими что–либо. И, клянусь собакой, о мужи афиняне, уж вам-то я должен говорить правду, что я поистине испытал нечто в таком роде: те, что пользуются самою большою славой, показались мне, когда я исследовал дело по указанию бога, чуть ли не самыми бедными разумом, а другие, те, что считаются похуже, – более им одаренными. Но нужно мне рассказать вам о том, как я странствовал, точно я труд какой-то нес, и все это для того только, чтобы прорицание оказалось неопровергнутым.
После государственных людей ходил я к поэтам, и к трагическим, и к дифирамбическим, и ко всем прочим, чтобы на месте уличить себя в том, что я невежественнее, чем они. Брал я те из их произведений, которые, как мне казалось, всего тщательнее ими отработаны, и спрашивал у них, что именно они хотели сказать, чтобы, кстати, и научиться от них кое-чему. Стыдно мне, о мужи, сказать вам правду, а сказать все-таки следует. Ну да, одним словом, чуть ли не все присутствовавшие лучше могли бы объяснить то, что сделано этими поэтами, чем они сами. Таким образом, и относительно поэтов вот что я узнал в короткое время: не мудростью могут они творить то, что они творят, а какою-то прирожденною способностью и в исступлении, подобно гадателям и прорицателям; ведь и эти тоже говорят много хорошего, но совсем не знают того, о чем говорят. Нечто подобное, как мне показалось, испытывают и поэты; и в то же время я заметил, что вследствие своего поэтического дарования они считали себя мудрейшими из людей и в остальных отношениях, чего на деле не было. Ушел я и оттуда, думая, что превосхожу их тем же самым, чем и государственных людей.
Под конец уж пошел я к ремесленникам. Про себя я знал, что я попросту ничего не знаю, ну а уж про этих мне было известно, что я найду их знающими много хорошего. И в этом я не ошибся: в самом деле, они знали то, чего я не знал, и этим были мудрее меня. Но, о мужи афиняне, мне показалось, что они грешили тем же, чем и поэты: оттого, что они хорошо владели искусством, каждый считал себя самым мудрым также и относительно прочего, самого важного, и эта ошибка заслоняла собою ту мудрость, какая у них была; так что, возвращаясь к изречению, я спрашивал сам себя, что бы я для себя предпочел, оставаться ли мне так, как есть, не будучи ни мудрым их мудростью, ни невежественным их невежеством, или, как они, быть и тем и другим. И я отвечал самому себе и оракулу, что для меня выгоднее оставаться как есть.
Вот от этого самого исследования, о мужи афиняне, с одной стороны, многие меня возненавидели, притом как нельзя сильнее и глубже, отчего произошло и множество клевет, а с другой стороны, начали мне давать это название мудреца, потому что присутствующие каждый раз думают, что сам я мудр в том, относительно чего я отрицаю мудрость другого. А на самом деле, о мужи, мудрым-то оказывается бог, и этим изречением он желает сказать, что человеческая мудрость стоит немногого или вовсе ничего не стоит, и, кажется, при этом он не имеет в виду именно Сократа, а пользуется моим именем для примера, все равно как если бы он говорил, что из вас, о люди, мудрейший тот, кто, подобно Сократу, знает, что ничего-то по правде не стоит его мудрость. Ну и что меня касается, то я и теперь, обходя разные места, выискиваю и допытываюсь по слову бога, не покажется ли мне кто-нибудь из граждан или чужеземцев мудрым, и, как только мне это не кажется, спешу поддержать бога и показываю этому человеку, что он не мудр. И благодаря этой работе не было у меня досуга сделать что-нибудь достойное упоминания ни для города, ни для домашнего дела, но через эту службу богу пребываю я в крайней бедности.
А теперь обещанный комментарий. Здесь, во-первых, не видно никакого родовспоможения, а видно, что Сократ не видит вокруг ничего, достойного звания мудрости, следовательно, сам и оказывается самым мудрым, раз уж он хотя бы это знает – что ничего не знает. Но, конечно, отсюда при желании можно вывести и майевтику, потому как метод вроде бы тот же самый: выпытывание у говорящего – что же он имеет в виду - вплоть до исчерпывающего объяснения. Но есть один нюанс. Ведь Сократ признает, что поэты создают замечательные поэтические произведения, равно как и то, что ремесленники многое умеют. Следовательно, они рождают вполне «истинные и полноценные плоды», а вовсе не «ложные призраки». И однако Сократ эти плоды не принимает. Почему? Потому что, еще раз вспомнив пример с поэтами, это плоды не мысли, а чего-то другого:
«Стыдно мне, о мужи, сказать вам правду, а сказать все-таки следует. Ну да, одним словом, чуть ли не все присутствовавшие лучше могли бы объяснить то, что сделано этими поэтами, чем они сами. Таким образом, и относительно поэтов вот что я узнал в короткое время: не мудростью могут они творить то, что они творят, а какою-то прирожденною способностью и в исступлении, подобно гадателям и прорицателям; ведь и эти тоже говорят много хорошего, но совсем не знают того, о чем говорят».
То есть фактически он упрекает поэтов в том, что их поэзия не является рассуждением! Плод их деятельности оказывается хотя вроде бы и полноценным, но не истинным. А, следовательно, все же неполноценным. И в том же он упрекает и ремесленников: сделать что-то они могут, а объяснить – не могут ничего (за исключением своего ремесла). Но «объяснить» – это и есть дело философа, а не государственного мужа, поэта или ремесленника или еще кого бы то ни было! То есть получается, что в «Апологии Сократа» Сократ ищет философов, но не находит, а в «Теэтете», он уже рождает философов (способствует их рождению), хотя и с переменным успехом. Таков видимый мною нюанс.
Далее же следует признать такую майевтику Сократа майевтикой с одной стороны крайне показательной, а, с другой – совершенно неудачной. Это «майевтика философского высокомерия», по ходу которой во весь голос заявляет о себе более широко-распространенный феномен: человек, действующий в той или иной сфере деятельности склонен именно эту сферу деятельности полагать важнейшей по отношению к другим. Происходит это почти автоматически. «Раз уж я решил этим заняться - значит, и важнее ничего быть может. Ведь если могло бы быть – то именно этим «более важным» я бы и занялся» - примерно так размышляет человек. Он выбирает нечто самое важное «для себя», но, чтобы выбрать (укрепиться в выборе), он должен превратить его в самое важное вообще. Пока оно не становится объективированно «самым важным» все время могут возникать сомнения – а нельзя ли выбрать что-то другое, поважнее? Это чисто психологический момент. Отсюда поэт восхваляет поэзию (как нечто не просто Прекрасное, но самое прекрасное), художник – живопись, философ – философию, ученый – науку (смеясь над философией, а особенно когда она пытается и себя назвать наукой), ну а государственные деятели со смехом выслушивают все эти восхваления, прекрасно понимая, что нет на свете ничего важнее и желаннее власти.
Вместе с тем, Сократ, раз уж он искал мудрость, вроде бы не мог поступить по-другому. Ведь действительно ни поэт не мудр, ни государственный деятель. Стремление к мудрости, повторюсь, реализуется в процессе рассуждения, понимаемом как основное занятие в жизни человека. Самое же мастерское владение своим искусством или ремеслом не делает человека мудрецом (философом; мудрецом, строго говоря, не делает человека и искусство рассуждать, поскольку нет такого мудреца, которого Сократ из «Теэтета», понимаемый как воплощение идеальной критической способности, не мог бы поставить на место и даже Платон, я уверен, не является исключением их этого правила). Но это же самое стремление к рассуждению и должно подсказать рассуждающему, что рассуждение не может автоматически считаться чем-то лучшим, по отношению к другим возможным занятиям человека. Прекрасное рассуждение априори ничуть не прекраснее прекрасного стихотворения. Даже наоборот – именно стихотворение прекраснее, рассуждение же в большей степени истинно. Ты хорош в рассуждениях? Но не мудростью единой…
236,5K