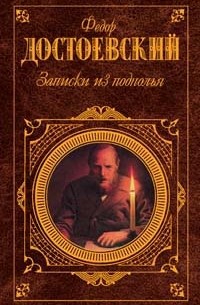
 Ваша оценка
Ваша оценкаРецензии
 Аноним11 июля 2016 г.Читать далее
Аноним11 июля 2016 г.Читать далееМоё общение с Достоевским всегда протекает ужасно медленно и мучительно: то Преступление и наказание с температурой под 39 со странной электронной музыкой на фоне и отчего-то полным эффектом присутствия, то чтение Идиота исключительно на рассвете при тщетных попытках уснуть, то Униженные и оскорблённые, из которых я отчего-то помню только спасение девочки.
Двойник не стал исключением, в новинку было только полное ощущение того, что в руках у меня совсем не Достоевский, а самый что ни на есть Гоголь. Но Николай Васильевич в моих глазах никогда не был таким гиперболистом, каким предстал Достоевский: доведённые до гротеска низкие\беззащитные и\или страдающие люди, без просвета и надежды на благополучный исход, без даже иллюзий на свет в конце этого душного, тесного и неприятного тоннеля его произведений.
Раздражение - всё, что я обычно испытываю по отношению к героям: от слов и поступков до банального нежелания или неспособности ими увидеть (кажется такому умному тебе) вполне очевидные вещи. Для восприятия чего-либо приходится практически переступать через жуткое нежелание продираться и дальше сквозь "и неизвестно ничего? — покамест еще нет-с. — а послушай... того... оно, может быть, будет известно? — потом, разумеется, может быть, будет известно-с."
Проблема такой преувеличенной передачи всего самого неприятного и низкого в характерах (чем грешили многие, почему-то вспомнился Горький) здесь же отчего-то вылилась во мнительность не только в Голядкине, но и уже во мне: мозг подсказывает, что Яков Петрович, кажется, несколько не в себе, однако верить в это совершенно отказываешься: здесь все и каждый (!) не в себе.
Стоит отдать мастерству Достоевского должное: в Двойнике я впервые прочитала с такой точностью переданный поток человеческих мыслей - абсолютно нескладный монолог с только лишь самому человеку понятными причинно-следственными связями (от слов "Ведь вот: как поступить, господи бог мой? И нужно же было быть всему этому!"). Такие фрагменты обычно не прочитываются внимательно, они проглатываются и проходят где-то фоном ровно так же, как, полагаю, эти мысли пролетали бы в голове у вечно переживающего Голядкина-старшего. Настолько близко литература до Достоевского к изображению мысленного процесса не добиралась, и вот здесь-то он обошёл всех на пару шагов вперёд.
Психологически тонко, с несколько даже несвоевременным для 1846 года сюжетом, актуальным ближе к 21 веку (Бойцовский клуб и все-все-все) - это, безусловно, заставляет признавать дар Достоевского. Но как же тяжело, как же мучительно сложно не утонуть в этом потоке сознания.3116 Аноним29 апреля 2016 г.Читать далее
Аноним29 апреля 2016 г.Читать далееОчень характерное произведение для Достоевского. Многое из того, с чем у меня ассоциируется его творчество, здесь представлено в концентрированной форме. Это не имеющая шансов прекратиться депрессия, близкая грань сумасшествия, скрупулёзное, многократно возобновляемое описание переживаний героев и, конечно же, серый, холодный Петербург. В начале повести, при описании бала у Олсуфия Ивановича, у меня была надежда, что вдруг, вопреки всему, «Двойник» окажется произведением остроумным, легко воспринимаемым, возможно даже остросюжетным, однако сразу же, после того как главного героя вытолкали из дверей, Достоевский снова стал тем, каким мы его любим. ИМХО, Фёдор Михайлович предметам, которые с творчеством связаны постольку поскольку – общественным отношениям, психологии, политике иногда жертвует своё писательское мастерство, по которому с ним может сравниться разве что Гоголь.
386 Аноним18 февраля 2016 г.
Аноним18 февраля 2016 г.Бобок Достоевского
На семинаре как-то сказали:
Для многих долгое время существовал гений Достоевского и его ужасный "Бобок".Стало интересно, что это за Бобок-то такой. Через некоторое время руки до рассказа всё-таки дошли.
Оказалось, что это достаточно занятный фантастический рассказ с крупными такими вставками абсурда и бредовых рассуждений. Возможно, тогда читатели к такому были не готовы...3153 Аноним3 января 2016 г.
Аноним3 января 2016 г.Это прекрасный труд автора, с помощью которого я поняла мир вокруг и мир в себе.
Удивительнейшая способность Достоевского облекать идеи в слова. При прочтении хочется чтобы где-то поодаль зазвучала шопеновская мелодия, чтобы вокруг был легкий аромат сирени и на языке горький вкус шоколада. А как еще описать состояние эйфории, в которой пребываешь осознавая то, что кто-то облек в слова всю жизнь человека (человечества)!?385 Аноним13 августа 2015 г.Читать далее
Аноним13 августа 2015 г.Читать далееГротескно, абсурдно и тем не менее более жизненно, чем может показаться. Ведь сколько в жизни таких, как Фома Фомич Опискин, манипуляторов с мещанско-барскими замашками?
Низкая душа, выйдя из-под гнёта, сама гнетёт.Достоевский так тщательно препарирует эту историю, что в какой-то момент начинаешь задыхаться от смрада идолопоклонничества, от обилия речей в духе из пустого в порожнее... Но что самое интересное, коли такие Опискины живут и здравствуют, то не от того ли, что всегда найдётся благодатная публика, буквально нуждающаяся в таком "истинно богоугодном человеке"? Так что соглашусь с непостоянным, но порой метким в высказываниях Бахчеевым:
... прокисай всё на свете!335 Аноним10 июня 2015 г.Читать далее
Аноним10 июня 2015 г.Читать далееК Двойнику было тяжело подойти из-за обиды на обиженного Федора Михайловича. Он человек тяжелый, отпечатавший тяжесть своей жизни слепок своего времени, в котором уже не было Бога, без которого надежда на то, что кто-то будет справедлив у догматиков не осталось. От этого его националистские и антисемитские высказывания можно пропускать мимо ушей, как допустимую самозащиту из прошлого века, в творчестве их отпечаток не так глубок. Другое дело то, что кроме сожаления к его любимым "маленьким людям", здесь есть достаточная доля отвращения к работе как таковой, так и к чванству и глупости клерков, которым таки является главный герой. Хотя героем его называть тяжко.
Господин Голядкин, который доселе, разговаривая с низу лестницы с Андреем Филипповичем, смотрел так, что, казалось, готов был ему прыгнуть прямо в глаза, — видя, что начальник отделения немного смешался, сделал, почти неведомо себе, шаг вперед.Раздвоение на личность и оболочку, или же заговор против всего доброго, без надежды на доброго царя и его наместников, которые никогда не узнают о проблеме, да и не удобно как-то. Та скомканность мыслей и эмоций, которая выворачивает нас, но несет по жизни Якова Петровича и все вокруг него - это тот самый Достоевский, без печати ссылки и каторги. В ней много всего от описания булочек, до рожи
Как изображу я вам, наконец, этих блестящих чиновных кавалеров, веселых и солидных, юношей и степенных, радостных и прилично туманных, курящих в антрактах между танцами в маленькой отдаленной зеленой комнате трубку и не курящих в антрактах трубки, — кавалеров, имевших на себе, от первого до последнего, приличный чин и фамилию, — кавалеров, глубоко проникнутых чувством изящного, чувством собственного достоинства; кавалеров, говорящих большею частию на французском языке с дамами, а если на русском, то выражениями самого высокого тона, комплиментами и глубокими фразами, — кавалеров, разве только в трубочной позволяющих себе некоторые любезные отступления от языка высшего тона, некоторые фразы дружеской и любезной короткости, вроде таких, например: «что, дескать, ты, такой-сякой, Петька, славно польку откалывал», или: «что, дескать, ты, такой-сякой, Вася, пришпандорил-таки свою дамочку, как хотел».
Господин Голядкин помедлил немножко, нужное время, и вышел нарочно позже всех, самым последним, когда уже все разбрелись по разным дорогам. Вышед на улицу, он почувствовал себя, точно в раю, так, что даже ощутил желание хоть и крюку дать, а пройтись по Невскому. «Ведь вот судьба! — говорил наш герой, — неожиданный переворот всего дела. И погодка-то разгулялась, и морозец, и саночки. А мороз-то годится русскому человеку, славно уживается с морозом русский человек! Я люблю русского человека. И снежочек и первая пороша, как сказал бы охотник; вот бы тут зайца по первой пороше! Эхма! да ну, ничего!»По двум этим цитатам уже можно понять, почему Двойник был принят неоднозначно, два неразличимых Якова Петровича это одно дело, а Яков Петрович (первый), который спорит сам с собой, и себя убеждает и принуждает к самым жутким поступкам - это уже совсем другая категория.
А вот я сам по себе, да только, и знать никого не хочу, и в невинности моей врага презираю. Не интригант, и этим горжусь. Чист, прямодушен, опрятен, приятен, незлоблив…От ненавистной зависти к своему альтер-эго, и от уверенность в том, что он заслуживает чего-то большего, он сконфузился до такой степени, что просто ушел от общество, а общество уже не то.
К концу все становиться настолько фантасмагоричным, что так и ожидаешь, что все закончиться как Приглашение на казнь .376 Аноним30 апреля 2015 г.Читать далее
Аноним30 апреля 2015 г.Читать далееТакой рассказ неоднозначный, что даже неудобно как-то писать на него рецензию. Начать с того, что я люблю Достоевского. Но – не конкретно в этом случае, ибо есть в его творчестве ряд вещей более фундаментальных как в плане содержания, так и в плане объема. Здесь же… это рассказ, после которого нужно прийти в себя. Пару-тройку дней. Потому что лично у меня от него не осталось вообще никакого впечатления, только мутный омут каких-то идущих мимо сознания странных ситуаций, замешанных на похожести двух людей, которую видит одни только главный герой.
Впрочем, он один, наверное, и видит, о чем нам пообещают тонко намекнуть в самом конце.351 Аноним22 августа 2011 г.Читать далее
Аноним22 августа 2011 г.Читать далееМногие люди знают Достоевского исключительно как религиозного писателя и моралиста. Так вот, эта книга показывает его с другой стороны - как автора произведения о мятущемся и безвольном человеке. Он совершенно никчёмное существо и такое существование для него извращенно сладостно. Он сам себе не нравится и ему нравится, что он не нравится.
Немало мыслей героя созвучны мыслям самого Фёдора Михайловича Достоевского. Противоречивая философия героя вообще очень интересна:Мало того: тогда, говорите вы, сама наука научит человека (хоть это уж и роскошь, по-моему), что ни воли, ни каприза на самом-то деле у него и нет, да и никогда не бывало, а что он сам не более, как нечто вроде фортепьянной клавиши или органного штифтика; и что, сверх того, на свете есть еще законы природы; так что все, что он ни делает, делается вовсе не по его хотенью, а само собою, по законам природы. Следственно, эти законы природы стоит только открыть, и уж за поступки свои человек отвечать не будет и жить ему будет чрезвычайно легко. Все поступки человеческие, само собою, будут расчислены тогда по этим законам, математически, вроде таблицы логарифмов, до 108 000, и занесены в календарь; или еще лучше того, появятся некоторые благонамеренные издания, вроде теперешних энциклопедических лексиконов, в которых все будет так точно исчислено и обозначено, что на свете уже не будет более ни поступков, ни приключений.
Тогда-то, — это все вы говорите, — настанут новые экономические отношения, совсем уж готовые и тоже вычисленные с математическою точностью, так что в один миг исчезнут всевозможные вопросы, собственно потому, что на них получатся всевозможные ответы. Тогда выстроится хрустальный дворец. Тогда… Ну, одним словом, тогда прилетит птица Каган. Конечно, никак нельзя гарантировать (это уж я теперь говорю), что тогда не будет, например, ужасно скучно (потому что что ж и делать-то, когда все будет расчислено по табличке), зато все будет чрезвычайно благоразумно. Конечно, от скуки чего не выдумаешь! Ведь и золотые булавки от скуки втыкаются, но это бы все ничего. Скверно то (это опять-таки я говорю), что чего доброго, пожалуй, и золотым булавкам тогда обрадуются. Ведь глуп человек, глуп феноменально. То есть он хоть и вовсе не глуп, но уж зато неблагодарен так, что поискать другого, так не найти. Ведь я, например, нисколько не удивлюсь, если вдруг ни с того ни с сего среди всеобщего будущего благоразумия возникнет какой-нибудь джентльмен с неблагородной или, лучше сказать, с ретроградной и насмешливою физиономией, упрет руки в боки и скажет нам всем: а что, господа, не столкнуть ли нам все это благоразумие с одного разу, ногой, прахом, единственно с тою целью, чтоб все эти логарифмы отправились к черту и чтоб нам опять по своей глупой воле пожить! Это бы еще ничего, но обидно то, что ведь непременно последователей найдет: так человек устроен. И все это от самой пустейшей причины, об которой бы, кажется, и упоминать не стоит: именно оттого, что человек, всегда и везде, кто бы он ни был, любил действовать так, как хотел, а вовсе не так, как повелевали ему разум и выгода; хотеть же можно и против собственной выгоды, а иногда и положительно должно (это уж моя идея). Свое собственное, вольное и свободное хотенье, свой собственный, хотя бы самый дикий каприз, своя фантазия, раздраженная иногда хоть бы даже до сумасшествия, — вот это-то все и есть та самая, пропущенная, самая выгодная выгода, которая ни под какую классификацию не подходит и от которой все системы и теории постоянно разлетаются к черту. И с чего это взяли все эти мудрецы, что человеку надо какого-то нормального, какого-то добродетельного хотения? С чего это непременно вообразили они, что человеку надо непременно благоразумно выгодного хотенья? Человеку надо — одного только самостоятельного хотенья, чего бы эта самостоятельность ни стоила и к чему бы ни привела. Ну и хотенье ведь черт знает…335

