Филфак. Русская литература. Программа 1-3 курса

- 311 книг
Это бета-версия LiveLib. Сейчас доступна часть функций, остальные из основной версии будут добавляться постепенно.

 Ваша оценка
Ваша оценкаЖанры
 Ваша оценка
Ваша оценка
Владимир Зазубрин
«Щепка»
Ночь. Коридор. Лампочка.
Луна. Двор. Губчека.
Выстрел. Кровь. Романтика.
Она. О Ней. Тот путь среди огней.
Комната. Диван. Стол начальника.
Стул. Досье. Очередная папочка.
Доклад. Облава. Сход общака.
Мысли прочь. Давай быстрей.
Врата. Колёса. Дыхание солдатика.
Подвал. Каблук. Затылок — яблочко.
Отдых. Снег. Похвала заказчика.
Её прикосновение, дыхание. Смелей.
Молвил сын: «Не будь убийцей, папочка».
Отец шептал: «Холодна-то ямочка».
Мать пугалась. Не дамочка — гражданочка.
Жена ушла. Общество стаканчика.
Она. Твой образ мне милей.
Честь? Совесть? Фантастика!?
Приказ. Бумага. Тактика.
Подушка. Зеркало. Мозаика.
То отражение всё страшней.
Обязанность. Речь докладчика.
Усталость. Друг. Прозаика.
Скука. Сон. Плечо соратника.
Её люблю. Она всего главней.
А мне бы жить, любить…
И жить давать другим…
Но мой удел — клеймить…
О Ней, о Ней, о Ней. Я одержим…
И тихо говорит, шепчет: «Убей».
Стук сердца. Взгляд человека.
Дышать, дышать, дышать…
Мольба. Слеза. Истерика.
Глаза закрыть и не моргать…
Внушение: Я — винтик, не Андрей!
Крест. Судьба. Батюшка.
Наслаждение. Удел фанатика.
Страдание. Открылась лавочка.
Себя и их не считаю за людей.
Забытьё. Улетела ласточка…
Сломался я, но не система.
О эти звуки, как поэма:
Да здравствует Чека!
Она, Она, Она, Она, Она, Она…
День. Ночь. Улицы. Цепочка.
Шум. Резь. Тяжесть. Не одна.
P.S. Когда я начинал читать эту повесть, у меня возник разговор с одним человеком на тему Февральской революции, Октябрьского переворота и последовавших после событиях. На мои реплики о Красном — в большей степени — и Белом — в меньшей — террорах, этот человек сказал: «Разве только у нас были революции? Во Франции, например, тоже была революция». Я не стал ничего отвечать, так как какое отношение события во Франции имели к событиям в России? В чём смысл? Типа, согласиться, что не мы одни такие? И каково же было моё удивление, когда я в повести встретил строки, в которых автор словами своего героя сравнивает и показывает, в чём принципиальное различие между французскими и российскими известными событиями. Как вы думаете, Владимир Зазубрин прав?
«Во Франции были гильотина, публичные казни. У нас подвал. Казнь негласная. Публичные казни окружают смерть преступника, даже самого грозного, ореолом мученичества, героизма. Публичные казни агитируют, дают нравственную силу врагу. Публичные казни оставляют родственникам и близким труп, могилу, последние слова, последнюю волю, точную дату смерти. Казнённый как бы не уничтожается совсем.
Казнь негласная, в подвале, без всяких внешних эффектов, без объявления приговора, внезапная, действует на врагов подавляюще. Огромная, беспощадная, всевидящая машина неожиданно хватает свои жертвы и перемалывает, как в мясорубке. После казни нет точного дня смерти, нет последних слов, нет трупа, нет даже могилы. Пустота. Враг уничтожен совершенно».

Приятно все-таки обнаружить маленький шедевр, тем более что ничего не предвещало. О писателе Зазубрине я узнала совершенно случайно… так же случайно посмотрев фильм «Чекист», который был поставлен по его повести. Фильм, помнится, мне понравился, несмотря на чернушность творившегося на экране (момент с вытаскиваемыми из подвала за ноги трупами забыть непросто). До повести же я дошла спустя два с половиной года.
Тут, пожалуй, стоит остановиться и сказать: «Книга лучше!» И это здорово. Зазубрин удивил меня. Он прекрасный писатель, оказывается (жаль, малоизвестный), он умеет так ставить сцены, что те получаются яркими, запоминаются; и, конечно, нельзя не сказать о его языке – изломанном, но сочном, оригинальном в своей жесткости. Честно – хотя бы из-за языка стоило прочитать «Щепку».
Рассказывает же повесть о человеке по имени Лимон… в смысле, Андрюша Срубов (как иронично). Он потомственный интеллигент, отец его – человек известный, уважаемый, был расстрелян из-за контрреволюционных мыслей.
Андрюша же – полная противоположность своего батюшки. Очаровавшись Революцией (далее – Ею) в самом начале, он прошел с Нею путь через безумие Гражданской и вот занял место председателя Губчека (т.е. Губернской Чрезвычайной Комиссии).
Только-только закончилась война в стране, но враги еще не уничтожены. Во врагах – бывшие соратники Колчака, буржуи, тайно настроенная против Советов местная интеллигенция. Всех их нужно поскорее расстрелять, поскольку есть риск новых восстаний против советской власти.
Андрюша Срубов лишен маньяческих черт. Да, он постоянно допрашивает врагов (очень деликатно, к слову), подписывает смертные приговоры, наблюдает за работой своих палачей. Безусловно, эта работа наделяет его определенными чертами, как и любая другая деятельность, на благо или во зло. Но личной ненависти у него нет. Нет у него личных причин, комплексов, которые могли бы заставить его убивать всех этих милых и немилых «белых» и их пособников. Даже женщин. Он просто служит Ей, этому светлому образу. Он искренен в своей любви к Революции, он понимает Ее неизбежность, жестокость – и ужасается Ей.
Оставаясь человеком умным и чувствующим, он переживает по двум причинам. Во-первых, его беспокоит отношение к нему посторонних. Любимая жена бросила его с сыном, аргументировав это тем, что ей «стыдно быть женой палача». В общественных местах на него все косятся, узнавая его, страшного главаря Чека. Может быть, они сами – ярые коммунисты. Но палачей боятся и презирают. А Андрюше хочется понимания.
И, во-вторых, мучает Срубова тайная, глубоко запрятанная совесть. Он не может не размышлять: а зачем они убивают, зачем умножают уже совершившееся горе? Он пытается оправдать себя, но чувствует себя временами отвратительно из-за этого. Своего друга Каца, который и расстрелял его «белого» отца, Срубов любит и одновременно ненавидит. Он еще способен сожалеть; он, как ребенок, радуется, пощадив каких-то крестьян, затеявших бунт. И снова, и снова, и снова – он все пытается убедить себя, что Ей нужны жертвы, и сам готов полностью принести себя Ей, хоть бы это и стоило ему собственной жизни.
«Щепку» можно цитировать бесконечно, столько в ней точных и верных замечаний, разумных и страшных размышлений. Поразительно, как в 1923 г. Зазубрин умудрился честно и безжалостно изобразить самое страшное. События повести можно перенести из России в Италию, Германию, Китай, на Кубу, в любое место земного шара, что застало террор. Эта история универсальна. Ею был болен весь 20 век.
И Зазубрин как никто сумел показать, что насилие, каким бы справедливым оно ни казалось, питается в т.ч. кровью своих палачей. И это лучшее предостережение для тех, кто снова готов схватиться за оружие во имя идеи, ибо:

И опять страшно было читать. И опять страшно было. И опять страшные риторические вопросы - ну как могло такое произойти в человеческом обществе, если описание казней уже вышло в литературу? Если из темы красного террора ДЕЛАЛИ книги со всем соответствующим цинизмом?
Это повесть о щепках. В качестве щепок в данном случаи - палачи. Более распространено, конечно, другое сравнение - винтики. Ну а тут палачи. Которые вроде бы обычные люди, если бы не бездонная пустота в их глазах. Которые стреляют в затылки с такой же лёгкостью, как курильщик глубоко затягивается. Работа у них такая - людей убивать во имя революции, несущей людям светлое будущее, свободу, равенство и братство.
В повести два типа людей. Палачи и расстреливаемые. С палачами всё понятно.
Непонятно с жертвами. Мы видим их в последние минуты жизни. Видим, как они от страха ходят под себя, призывают к жалости, доказывают свою невиновность. Практически все до единого. Я увидел в книге только двух, умерших достойно, с поднятой головой. Спрашивается - и всё? И только? Неужели все умирали именно так, в том числе и хвалёные белые офицеры?
Страшна не только повесть сама. Страшно и предисловие. Приведу в пример только последние два абзаца.
Радостного переустройства, вы понимаете?
Всё, не могу больше. Простите...

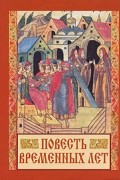










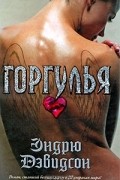

Другие издания

