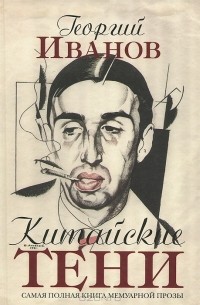Бумажная
1399 ₽
Это бета-версия LiveLib. Сейчас доступна часть функций, остальные из основной версии будут добавляться постепенно.

 Ваша оценка
Ваша оценкаЖанры
 Ваша оценка
Ваша оценка
Китайские тени.. русские тени. Тени танцуют в пещере Платона.
Интересно, если бы я умер и оказался в условной Пещере Платона и «пещера» была бы памятью моей о мире и я бы там, как в детстве, шаля, делал бы руками — тени зайчиков или травки.
Это как-то отразилось бы в мире реальном? Может солнечный зайчик улыбки моего смуглого ангела во сне, нежно просиял бы?
Или рука её милая, во время сна, почесала бы свой носик, не менее милый?
Я к тому, что… если бы у меня было 2 жизни, я бы с радостью покончил с собой (не из-за любви: это если бы у меня была одна жизнь. Что я и делал уже). Из-за чего? Из-за насилия над красотой искусства — другими людьми.
Я до сих пор не понимаю, почему есть термин — синдром Стендаля (Стендаль, будучи в музее, так исполнился красоты перед картиной смуглого ангела, что упал в обморок), но нет синдрома, когда от варварского или грубого отношения к искусству, насилия над красотой, человек бы падал в обморок.
Может в мою честь назовут? Синдром Лаонова. Или проще — синдром Саши.
Это и правда ужасно. Ужасно, когда варвар, вонзает нож в картину. Но не менее ужасно, когда нож — ментальный. А значит он проникает ещё глубже.
Вы можете представить себе, если бы на Голгофе было три креста, и у ног распятого Христа.. кто то ел бы чебурек?
А есть чебурек в филармонии, когда играет Дебюсси или Рахманинов? А перед картиной Рафаэля или Уотерхауса?
А ведь многие кушают, и когда читают (грешен!!! я иногда люблю кушать во время просмотра фильмов, и порой мне стыдно до безумия, что я ем печенье за просмотром Тарковского или Бергмана. Но я стараюсь не есть в трагические моменты и даже.. прячу печенье и коржик! Господи, коржик, ты то тут откуда взялся, милый? Выдал меня с ушками..).
Многие вообще путают еду и искусство: набивая утробу — красотой или фактами.
Мне от этого больно и хочется умереть (не всегда. Я же не идиот… хотя — синдром Саши, звучит так, словно это весёлая разновидность идиотизма).
Название мемуаров ИвАнова, уже намекает на то, что это — тени воспоминаний, печальные арлекины воспоминаний.
ИвАнов вообще, незаметно создал новое искусство, которое все проглядели: импрессионизм воспоминаний.
Как в своё время смеялись над Моне: ну какие к чёрту синие тени!! Ты идиот, Моне? У тебя синдром Саши?
Так и над ИвАновым глумились и обвиняли в клевете и недостоверности фактов.
А что есть истина? Особенно в воспоминании, которое быть может есть более реальное вещество, чем — время?
Разве не арлекинские тени — всё, что происходит тут на земле? Разве душа не томится по чему-то более реальному, что превышало и искупало бы лживую реальность жизни?
Например: если поссорились мужчина и женщина, но женщина, постеснялась подходить первой, мириться, но в душе своей — она подходила 1000 раз за эту ночь и по уровню чувств, высшем уровне, выше этой глупой реальности, и мирилась и душу рвала себе и переживала и прожила в эту ночь — лет 10.
Спрашивается, что более реально? То, что она не подошла, или как она прожила это событие в душе?
Иногда, преклонение перед реальностью и голым фактом — это самое позорное и тайное рабство. Плебейство.
Реальность часто двоится двумя истинами, как и сердце влюблённого человека: который любит.. двоих.
Без понимания этой истины, соприкосновение с искусством или мемуарами — преступно.
Перекрестившись, как в детстве, перед тем как спускаться в тёмный подвал (ах эти чудесные прятки в детстве!) или перед тем как нести маме школьный дневник (что страшнее??), я заглянул в рецензии на Китайские тени.
Ужасных рецензий не было. Были милые рецензии. Но.. мне всё равно чуточку захотелось умереть (да, синдром Саши).
Кто-то может пошутить: Саша.. а это связано с рецензиями? Или вам просто, вдруг захотелось умереть?
Ну разумеется связано! В одной милой рецензии меня резанули слова: Иванов собрал прелестные анекдоты о писателях и..
Господи.. как больно это читать. Может глянуть на милое фото моего смуглого ангела? Как Стендаль, грохнусь в обморок от избытка красоты. Не смерть, но.. милый «пробник смерти».
Кто-то спросит, не унимаясь: Саша.. а на фото, ваш смуглый ангел… утром, в постели, без макияжа?
Ну разумеется.. но она без макияжа ещё прекрасней.
…..
Так, прошло 10 минут. В обморок я не упал, но попил чудесный малиновый чай с коржиком.
Дело в том.. что прочитав Китайские тени, Марина Цветаева была — в гневе.
Речь шла о создании Мандельштамом стиха — Не веря воскресенья чуду.
Иванов создал дивную икону печального ангела-арлекина, непоседу, с несчастной любовью, бредущего вдоль берега моря, под смех мальчишек: он был влюблён в какого то смуглого ангела, жену армянина, богача. А сам умирал от голода.
Цветаева, в своём эссе, стала доказывать.. что этот стих — посвящён именно ей, а не какому то смуглому ангелу.
С одной стороны, Марину можно простить. Тут её ослепила ревность. Да и любовь между ними была (между Мариной и Осипом).
Если не ошибаюсь, жена Осипа, Надя, потом вспоминала, когда её спрашивали, не ревнует ли она спустя года, к Марине, что она была первой женщиной Осипа?
Она улыбнулась: что вы? Спасибо Марине! Кто как не она могла научить Осипа — любви?
С другой стороны, в эту же ловушку попала и Ахматова. Нет, Осип не ей посвящал этот стих. Хотя реальность двоится, как и сердце человека.
Она обиделась на другое: Иванов описал в улыбчивых красках, как Ахматова устроила вечер своей поэзии после многих лет молчания. Пришли все.
Вечером, пришла за билетом какая то женщина скромная. Спросила билет. Ей сказали — кончились.
Спустя минуту, кассирша узнала, что это была — Ахматова, и бросилась к ней.
Знаете чем прекрасны такие мемуары, где люди выглядят не как гипсовые истуканы на школьных пыльных полочках, а живыми, в 4-м измерении событий, отражённых в душах тех или иных людей: событие, отражённое в душе Достоевского или Цветаевой, пусть и недостоверно, более реально и близко к Богу, нежели голое событие, само по себе.
Помните, как в фильме Балабанова — Брат, Данила помогал брату разрулить ситуацию и с бандюгами засел в какой-то квартире, «пася» одного человечка?
Эта квартира — ад, не его жизнь, ложная его жизнь, хотя и реальная, и в этой квартире скоро убьют человека.
И вот, звонок. Он открывает дверь (пистолет прячет за дверью), и видит, что это его любимый музыкант. Просто он ошибся дверью, и его зовёт милый голос — этажом выше.
Кто-то фукнет: нет, это не интеллигентское кино, там убийства и секс и наркотики и…
И моё веселое русское слово в ваш адрес, кто так думает.
Потому что тут — русское кватроченто в стиле Фра Анжелико: у Данилы болит голова и он идёт наверх, по ступенькам, словно в рай — спиритуалистическая смерть — квартира-рай, и там он видит своих милых друзей: друзей его души, тени своей подлинной жизни: его любимые музыканты играют его любимые песни, уютно пьют водочку, играют в бильярд.
Он просит разрешения: можно я тут посижу чуть-чуть?
Вот так и мемуары Иванова: хочется посидеть душой в этом уютном месте, где жив милый Осип Мандельштам, жив Гумилёв, ещё не расстрелянный: он был в Англии, на момент революции, он мог остаться жить там.. просто, жить. Его спросили: Николай, ты куда? В Африку, охотиться на львов? На войну?
Зима. Возражения Осипа становятся всё прозрачнее.. Гумилёв увлечен и смотрит на небо, облака..
И тут.. на его колени падает замёрзший Осип. Его дома откачивают, растирают спиртом..
Но спасителем себя провозглашает один человек: он просто поднёс трёхрублёвку к лицу Осипа. И Осип — ожил.
Было ли это на самом деле? Было, но наверно не всё. Это было мило? Реально, чисто духовно? Да.
Иванов — гениальный поэт, и он как никто знал, что события порой могут развиваться в нескольких реальностях, интерпретациях реальности.
Где-то, всё было именно так.
Или вот ещё. Иванов описывает в паре строчек, зарницу воспоминания: поэты устроили частное издательство, для «своих», и туда присоседилась некая женщина, с сединой, пухленькая. Не совсем поэт, но стихи пописывала. Она — врач.
И вот, вышел первый номер журнала, со стихами поэтов. Все листают жадно.. ищут.. так же жадно и прелестно, сумасшедшие порой ищут себя в зеркале: это веточка, облака.. синичка, травка… А где же я, господи! Меня нет!! Может я — травка? Синичка? Ну не вон та же старушка-уборщица!!
В общем, наша пухленькая женщина с сединой, загрустила, покраснела как гимназисточка: её стих — урезали.
К ней подошёл Гумилёв и ободрил её: Вера, так даже лучше, вы не находите? Ваш стих только выиграл от этого.
Почему я остановился на этом неприметном эпизоде? Потому что в нём проклёвывается — мучительный рай.
Этот рай — Верочка.
99 % читателей, прочитав пару строк об этом, в книге Иванова, мило улыбнуться и продолжат читать. И никогда не узнают, что это за Вера Гедройц.
А я как рентген считываю всё это… для меня это всё родные люди. Верочка, Иванов… С детства.
У меня в юности не было друзей и я искал их среди мёртвых: среди поэтов Серебряного века, даже малоизвестных, о которых не слышали многие литературоведы.
Скажу о Верочке я, вместо Иванова.
Это была удивительная женщина. Она была гениальным хирургом, в первую мировую и в гражданскую, она ушла добровольцем на фронт, спасала солдатиков под ливнем огня.
Она очень хотела быть поэтессой, писала стихи.. не очень хорошие (хотя одно у неё — есть, дивное: Не надо. Ещё есть прекрасный стих, написанный под впечатлением от гибели Есенина, так и называется: Сергею Есенину). Она хотела, как мотылёк, от ужаса реальности, — к чему-то светлому прильнуть.
Но как и многие гениальные поэты, она не замечала, что небесная поэзия у неё не в стихах, а — в жизни её, в любви.
У неё был синестетический сдвиг, как у многих поэтов, но не в слове, как у Набокова или Толстого, а — в любви.
Она любила — женщин. Во Франции, она жила с одной женщиной, в разводе (дети были). Потом грянула война. Она рванула в Россию. Ждала и томилась, когда любимая приедет к ней.
Приехало — письмо. Словно душа без тела. В письме говорилось, что они не смогут быть вместе. Прости.. люблю.
Вечный ад, в общем, знакомый многим.
Вера пришла в ночную смену в госпиталь и, не долго думая, взяла у солдатика пистолет выстрелила себе в грудь.
Её чудом спасли.
Потом снова фронт и сотни спасённых ею мальчишек.
Потом она жила в Москве с другой женщиной (тоже, с детьми, чуравшихся её, называвшую себя в мужском склонении), с ней же, скрывалась в киевском монастыре, в катакомбах, во время революции, и с ними скрывался монах.
Прям утраченная поэма Перси Шелли: две влюблённые женщины, монах с ними, как ангел..
Она спасла жизнь этому монаху.
Верочка чем-то напомнила мне удивительную женщину 19 века — Миссис Мейсон (я на лл писал о ней статью - Маргарет Кинг). Она была воспитанницей матери Мэри Шелли и подругой самой Мэри Шелли и Перси Шелли, и именно она спасла Мэри от гибели, когда после выкидыша, Мэри не могла остановить кровь и Перси понёсся сквозь ночь и дождь, по скалам, к ней, и узнал (она была тоже, врач, и тоже, как и Вера, носила мужскую одежду.. правда, лишь в Германии, где тайно училась на врача: тогда женщинам нельзя было учиться.), что нужно положить её в ванную со льдом, что Перси и сделал, перенеся почти уже без сознания Мэри, в ванную со льдом.
О таких женщинах как Верочка и Миссис Мейсон, нужно снимать фильмы.. а о них никто не знает. Безумно больно..
Перси Шелли посвятил миссис Мейсон - удивительную поэму - Мимоза (Чувствительное растение).
А когда Вера тяжело заболела и умерла в одиночестве… её похоронили у монастыря, и с ней рядом, потом похоронили этого монаха.
Это же чистая поэзия! Это — равно стихам Блока, Мандельштама!
Кто-то может нахмуриться: нет.. женщин любила. Не моё это. Не понимаю. Отклонение..
Есть лишь свет любви и поэзии. А подлинное извращение и отклонение — это равнодушие, грубость, нелюбовь.
Тональность мемуаров (кстати, небольших), и правда похожа на то, как если бы вы зашли к другу, а он лежит на диване, закинув ноги на стену, и медленно что то перебирает на гитаре, и с тобой беседует с какой-то прищуринкой сердца, памяти..
Но чем больше ты у него сидишь, тем более отчётливей становится мотив, берущий за душу.
Эти очерки писались несколько лет и заметно, как ближе к концу, уже более зрелый Иванов, словно бы расправляет смуглые крылья ангела. Это видно даже по стилю.
На страницах появляются, как на балу Воланда — дивные персонажи, в обнажении их судьбы.. озябшей и бесприютной (в этом тайная прелесть мемуаров Иванова, он как бы ласковым светом крыл, овевает своих персонажей, ещё счастливых.. говоря им: ваши дни уже сочтены. Бедные вы мои. Просияйте же хоть улыбкой события, перед тем как погаснуть..
И событие словно бы обнимает их нежно, перед тем как и оно.. умрёт.).
Появляется таинственная баронесса Траубе — редаткорша в книжном издании, принимавшая посетителей — в гробу, со змеями.
Появляется некий таинственный денди в мехах, миллионер, устроивший в своей спальне храм красоты: стоят портреты Уайльда, Перси Шелли, Бальмонта. Свечи горят..
Он пишет роман — Путь в Дамаск. Возле него, как бледные мотыльки, вращаются юные поэты.. да он и сам — юн.
Но всё это — мираж. Русские тени. Вечером, звонок в дверь. А там — мужичок в замызганной шапочке.
Это его отец. Купец. Отправили сына на учёбу в консерваторию… а он все деньги промотал. Представился миллионером. Вот что значит, испанский стыд. Как мне было стыдно за него.. кажется, я даже нашёл и город в Испании и улицу и дом, как средоточие этого стыда.
И внимательный читатель не будет спешить перелистнуть страницу. Он вспомнит евангельскую легенду о Савле, гонителе Христиан, который ехал в Дамаск и ему в столпе света явился Христос и он упал с лошади и… раскаялся. И стал — апостолом Павлом.
Для этого несчастного денди, свет искусства — был светом Христа, он манил его, в сторону от лживой и жестокой жизни.
Пусть и нелепо, но он шёл на этот свет. И сгорел.
Да, это наверно тайная нотка мемуаров: все, все бесприютные души летят на свет искусства: и военные, и врачи и авантюристы, и одинокие женщины в браке..
Словно их жизни — это китайские тени, ложь и кривляние, а они хотят — жить!!
Один милый пошляк, в шубе норковой, заманил к себе Иванова домой. Похвастаться «роскошью», вином дорогим и т.д.
Но за это была расплата… нет, не бойтесь, не насилие сексуальное, но почти столь же ужасное: этот человек стал читать Иванову.. свои стихи.
А потом, как бы между прочим, пригласил в спальню (не переживай, читатель, сексуального насилия не будет. Хотя.. когда читаешь плохое творчество, это ведь почти как сексуальное насилие: тебе тра..ют мозг).
Над постелью, над головой, на трёх тонюсеньких ниточках, висела мраморная лампада.
Она в любой момент могла зашибить спящего.
А он с грустью сказал Иванову, как бы прочитав его мысли: а и пусть.
И вот, улыбчивое воспоминание, как мотылёк, разрывая бинты кокона, становится почти библейской притчей.
С Достоевщинкой. Может.. этот несчастный, который и сам сознавал свою пошлость, привёл Иванова, чтобы тот увидел его — боль и ад, с которым он живёт?
Иной раз друг, или подруга, приходят ко мне, подходит к книжной полочке… и мне стыдно. Словно вся душа моя обнажённая видна, вся моя боль и надежды мои, и я не знаю, дадут ли мне пощёчину, или обнимут нежно и прижмут к груди..
Иванов словно бы нежно прижимает своих героев к груди.. воспоминаний, к свету воспоминаний.
Есть что-то обречённо-райское, когда читаешь о том, как в голодном Петрограде, простые пирожные, были для мужчин и женщин — как причастие, как живая память о подлинной жизни.
А что есть подлинная жизнь, как не китайские тени?
Иванов описывает дивную вечеринку тех милых лет, на которой одного человечка, милого, но нелепого, безответно влюблённого в одну смуглую Кармен (у него был дефект речи: я тебя люлю..), его милые друзья, напоили и.. побрили наполовину его голову и выкрасили череп в зелёный цвет, а на лице проставили вопросительные знаки из синей краски, и тулуп его разорвали на ленточки и разукрасили тузами, как у каторжного, и вот такое чудо юдо, выпустили в ночь, блуждать.
На него наткнулся городовой и чуть не помер от страха.
Может так и выглядит — любовь безответная на земле? Вот именно так!!!
Вспомнились мои вечеринки в молодости, как выпивший друг дремал на диване.. а я с приятелем, нежно помадил ему губы, ресницы тушью подводил.
Иногда засыпал я. Шёл к любимой своей, домой… красивый, с вишнёвой помадой на устах, с накрашенными ресницами.
Завершить рецензию хочу на светлой, райской ноте.
Однажды, Гумилёв ехал в трамвае (заблудившемся?). Это было после революции, и он заметил, как его бывший кучер, едет — зайцем. Его схватили.
Гумилёв не побоялся, подошёл к людям в форме, и властным тоном, показав удостоверение — поэта (мелькнуло что то алое в руке. Если не ошибаюсь, в каком то фильме с Виктором Цоем, он так же взял на понт и показал — красную пачку сигарет).
Он знал, что те толком не умеют читать. Но он сказал, что он — председатель (не сказал, что — в кружке поэтов).
И те отпустили кучера. Так он спас жизнь ему. Поэзия, спасла жизнь человеку!
Вот бы так в жизни, правда? Поехать бы в Москву.. вместо денег — показывая ангелам и не только, в самолёте, в такси, — стихи о тебе, моя любимая, и к тебе подняться на 23 этаж и показать стихи о тебе — твоему любимому, сказав: я не могу жить без смуглого ангела.
Пусть я и зайцем еду по жизни, в любви.. но я не могу жить без неё! Самой прекрасной женщине на земле! Я поэт. Хотите.. я буду любить и вас? Только разрешите мне хотя бы раз в месяц просто прижиматься губами к милым ножкам смуглого ангела!
Я могу и к вашим ногам прижаться губами… а потому и к её. Чтобы вы поняли, что в этот нет греха!
Я не могу жить без неё… и дышать не могу. Я поэт. Я солнечный зайчик любви.
Я травка, я тень зайчика в пещере Платона..
- Милый, кто там?
- Соседка за солью зашла..

Георгий Иванов пишет так, что ты буквально проваливаешься сквозь тонны лет и вопреки слову "невозможно", оказываешься именно там, в быту литературных серебряных будней. В те дни, когда было мало пищи насущной для тела, но ее с легкостью повсеместно заменяли пищей для ума. И литературная среда в этом плане всегда была в передовице. Каково например такое дружеско-профессиональное упражнение:
Сейчас такие импровизации ценятся в стенд-апах, а сто лет назад - в стихах, и это заставляет побурчать как бабка на лавке относительно обеднения духовности и обмеления литературы. Мне кстати понравилась идея стихов с обобщённым названием "Жора", там даже примеры есть. Попробуйте угадать, в чем принцип задачки:
В Петербургских зимах больше персоналий и конкретных эпизодов с ними связанных, в Китайских тенях мне показалось больше общего антуража и настроения, общих впечатлений о тех или иных начинаниях или темах, которые вдруг вспомнились автору в рамках общей картины воспоминаний о литературной среде заданного периода. Но и тут лица есть, помимо общих воспоминаний мелькают сцены с разными известными личностями. Запомнился эпизод с Уэлсом (очень политически злободневный тогда), Луначарским, много Гумилева, Мандельштама (который к слову совершенно не понравился по характеру и поведению), немного Ахматовой, и масса совершенно невообразимых множественных малотиражных альманахов, журналов и сборников, которые основывали и забрасывали тогда с невероятной легкостью. То есть в Зимах - конкретные лица, двигавшие литературную мысль, а в Тенях - целые категории, но и то и другое последовательно создает непередаваемую иначе бытность того сложнейшего десятилетия и я бы рекомендовала читать обе книги, они в целом не зависимы друг от друга, но прекрасно дополняют и оттеняют одна другую.

Поэты Серебряного века, которых принято называть второстепенными оставили первостепенные мемуары. Или первостатейные, назовите, как хотите. Отличные мемуары, одним словом. Заметки Георгия Иванова поначалу возмущают: как же так, над Чуковским надсмеялся, мейерхольдовский "Балаганчик" не оценил. Потом понимаешь, и посмеялся по делу, и то, что гения легонько щёлкнул по носу, извинительно. В конце концов Мейерхольда признают и понимают далеко не все. Зато Иванов хорошо понимает поэзию и поэтов. Рассказывает точно, ёмко и про картонный нос Гумилёва, и про лиловую цаплю Блока и про ангельские глаза аптекарского ученика Мандельштама. Пишет с огромной любовью, с личным участием, благо, всех близко знал и со многими дружил. Не пытается примазаться к чужой славе, но и не принижает себя, мол, где уж нам уж. Старается выделить в каждом характере базовые, ключевые, определяющие личность черты.
В общем, редкий случай: красивая книга о красивых людях.

С годами убывающую уверенность в себе стала сменять уверенность в человеческой глупости.

За полгода до смерти Гумилев сказал мне: "В сущности, я неудачник". И еще: "Как я завидую кирпичикам в стене - лежат, прижавшись друг к другу, а я так одинок".

Однажды (Мандельштам как раз в это время был в отъезде) я принес портрет Пушкина и повесил над письменным столом. Старуха, увидев его, покачала укоризненно головой:





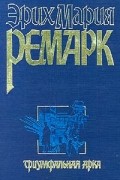
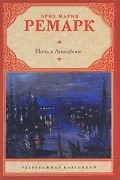









Другие издания