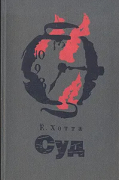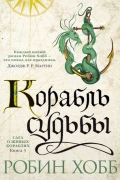100 японских книг, которые должен прочитать каждый.

- 100 книг
Это бета-версия LiveLib. Сейчас доступна часть функций, остальные из основной версии будут добавляться постепенно.

 Ваша оценка
Ваша оценка Ваша оценка
Ваша оценка
Что бы там ни утверждал классик, все несчастливые семьи несчастливы примерно одинаково — их губят бедность и измены. Вообще же история большого, дружного и зажиточного семейства, не выстоявшего под ветрами перемен рубежа эпох, к началу XX века в русской и европейской литературе была писана-переписана, и в этом смысле роман Симадзаки Тосон не прибавляет к теме ничего нового. С другой стороны, именно в Японии эпохи Мэйдзи, когда перестройка общества совпала (и в значительной степени была спровоцирована) с открытием страны для экономического, научного и культурного взаимодействия со странами Запада, такой роман просто не мог не появиться. Так что «Семья» — это всё те же разорённые гнёзда и вишнёвые сады, которые проходят на уроках литературы в старших классах; просто теперь они в Японии.
На самом деле даже две равно уважаемых (в прошлом) семьи — Коидзуми и Хасимото. Как такового главного героя в этой истории нет, фокус авторского внимания постоянно перемещается с братьев на сестёр, с дядей на племянниц, с родителей на детей...Чаще прочих в центре повествования оказывается Коидзуми Санкити, но не потому, что Санкити-сан играет важную роль в сюжете, а, скорее, от того, что в его образе много автобиографического — так же, как и автор, Санкити много лет проработал сельским учителем, а после переехал в город и посвятил себя литературной деятельности. Нетрудно догадаться, что Санкити в этом романе главный по рефлексии.
Сюжета тоже нет, и это меня немало раздражало при чтении — плавный неторопливый слог настраивает на такое же изложение, но история подаётся фрагментарно, и приходится самостоятельно догадываться, сколько дней? месяцев? лет? прошло с конца предыдущей главы. Совершенно ясно только одно — дела идут чем дальше, тем хуже, Коидзуми и Хасимото теряют уважение, имущество и родных. Это должно бы вызывать сочувствие, и я сочувствовала, но только наполовину, а, вернее, половине — женской половине семьи, матерям, жёнам и дочерям, которые с традиционной покорностью выносили все жизненные тяготы на своих покатых плечах, пока мужчины по старой памяти строили из себя почтенных патриархов и проматывали деньги на гейш и сомнительные прожекты.
Санкити на общем фоне смотрится ещё ничего, но и он потерял право на мою симпатию, когда замучил жену беспочвенной ревностью и упрёками в том, что она вышла за него не по любви. Ты, на минуточку, и сам женился не по любви, а просто потому, что тебе буквально без твоего участия сосватал девушку из хорошей семьи уважаемый человек. Так молчи и радуйся, что досталась красавица с золотым характером, которая избывает свои обиды в нескончаемых хлопотах по хозяйству, пока ты сидишь с кислой рожей, предаваясь экзистенциальным раздумьям. Когда Юки, развешивая на просушку привезённые из отчего дома нарядные кимоно, вздыхала о том, что не может их носить в деревенской глуши, я почувствовала её боль как свою (и дело тут не в кимоно).
Постоянное уничижение женщин подаётся настолько обыденно, что я даже не знаю, чему присудить первое место за мерзость. То ли инцестуальному насилию, которое, разумеется, замяли и замолчали — не выгонять же насильника из семьи, в самом деле. То ли эпизоду, когда после смерти маленькой дочери безутешный отец уезжает на недельку на взморье — развеяться, оставив жену с грудным младенцем на руках в доме, из окна которого видно кладбище со свежей могилкой. Что примечательно, когда жене пришлось уехать по семейным делам, вести хозяйство в её отсутствие прислали двух племянниц, ведь не может же взрослый мужчина сам себя обиходить, пусть о нём заботятся школьницы.
И как же обескураживает, что при этой слепоте и глухоте ко всему, что касается женщин, автор нередко высказывает удивительно точные, тонкие, поэтичные замечания относительно других вещей. Вот, например: «Учитель был уже в том возрасте, когда люди не дают покоя дантистам». Или вот: «Поговорив с Санкити о музыкальном вечере, о любимых блюдах, о выставке одного художника — обо всём, о чём говорят, когда идёт снег...». Или даже: «Умолкая время от времени, все трое глядели в мутное, сырое небо, похожее на морское дно. Точно тени рыб, пролетали мимо намокшие птицы». Я прямо вижу очами души своей это небо — так же ясно, как сложенные в шкафу кимоно бедной Юкико.

Вообще к произведениям, поднимающим социальную тематику, я отношусь с предубеждённостью, присущей исключительно возвышенным, тонко чувствующим и поэтичным натурам, но «Нарушенный завет» подкупил меня с первых же страниц. Главный герой увидел в продаже новую книгу своего любимого писателя и, хотя денег до зарплаты у него оставалось едва-едва, принял единственно верное в такой ситуации решение, чем моментально завоевал мою безоговорочную симпатию.
Да и могло ли быть иначе? Сэгава Усимацу молод и неглуп, более того — порядочен и образован, его уважают коллеги-учителя и обожают ученики. Казалось бы, у него есть все основания идти по жизни уверенным шагом и с гордо поднятой головой. Но есть одно «но».
Усимацу происходит из касты «неприкасаемых». Исторически сложилось, что такие касты существовали (кое-где существуют и до сих пор) в разных странах Азии. В Японии к «неприкасаемым» относили людей, чьи семьи с неопределённо давних пор занимались разделкой туш животных и обработкой сырых шкур. Названий для них было много: «эта» — «грязные», «хинин» — «нелюди»... всё в таком духе. Несмотря на то, что Реставрация Мэйдзи изрядно перекроила классовую структуру японского общества, и в конце XIX века каста «неприкасаемых» была формально ликвидирована и включена в третье сословие как «синхэймин» — «новые простолюдины», дискриминация в определённой степени сохраняется и по сей день, что уж говорить о начале XX века, к которому относится время действия романа.
А ведь уже тогда «синхэймин» получили возможность проявить себя, освоить новые поприща — среди них появились и простые крестьяне, и успешные дельцы, и учителя — вот, например, Усимацу. Но и работа в школе, и даже само профессиональное образование оказались доступны Усимацу лишь потому, что он — по завету отца — утаивал своё происхождение.
Судьба завета очевидна из названия романа, но читательского интереса это умалить не может. Да, Симадзаки, как сказано в аннотации, «повествует о тщательно скрываемой язве японского общества», но его герой при этом переживает сильнейший личный и личностный кризис, и описание переживаний Усимацу сообщает всему произведению щемяще трогательное настроение. Усимацу возмущён и одновременно подавлен тем, что общество, узнав о его происхождении, непременно его отвергнет, но ведь он вырос в этом обществе, усвоил его обычаи — Усимацу сам не вполне уверен, что он такой же человек, как все остальные, что он не «эта». Истерзанный душевными муками, он не сразу замечает, какой у него преданный, заботливый друг; какая замечательная девушка в него влюблена.
В «Нарушенном завете» неожиданно ярко проявляется одна из характерных черт классической японской литературы, когда описание перемен в человеческой душе соотносится с переменами в природе. Пока Усимацу пытаётся что-то сделать с обуревающими его горем и негодованием — то ли найти им выход, то ли навеки погрести в душе — осень медленно сменяется зимой, а зима укрывает мир снегопадами. В этом романе много страниц завораживающей, умиротворяющей пейзажной лирики, тесно переплетённой и с сюжетом, и с медленным принятием Усимацу себя и своего места в жизни.
И также много в этой книге внимания к повседневным мелочам, что тоже характерно для японской литературы: вместе с читателем Усимацу заходит в книжную лавку, в поисках нового жилья снимает простую, но уютную комнату в буддийском храме, наблюдает картины городской и деревенской жизни. И — тут уже без читателя — моется вместе с любимым писателем. В Японии бытует своеобычное отношение к наготе и физиологическим проявлениям жизни, но это, мне кажется, уже какой-то запредельный уровень интимности.
Симадзаки Тосон считается «крупнейшим представителем японского реалистического романа начала XX в.», и у меня нет никаких причин оспаривать это положение, но вместе с тем я не могу не заметить, как сильно романтическое начало в этом остросоциальном (на момент написания) реалистическом произведении. То кто-нибудь из персонажей, пребывая в душевном смятении, отвечает формальной фразой, и все присутствующие немедленно проникаются его переживаниями; то речь на политическом митинге оказывается полной «глубоких мыслей и сильных чувств» — да, конечно, на митингах именно так и говорят.
Но именно сильные чувства и глубокие мысли делают такими привлекательными (хотя и чуточку нереалистичными) героев романа, а сдержанность в их проявлении только подчёркивает искренность. Всё-таки начинал свою литературную карьеру Симадзаки Тосон как поэт-романтик, на его прозаическом творчестве это не сказаться не могло — и сказалось наилучшим образом.

Критический реализм Симадзаки Тосона - это голос гуманистического реализма, отражающий ренессанс японского общества, очнувшегося от феодального застоя и политики Сакоку. Смотря, конечно, насколько европейские культурологические ярлыки подходят японской литературе, тогда ещё только-только вливающейся в мировой поток сознания.
"Нарушенный завет" в дословном переводе скорее звучит как "нарушение завета". По-моему, это самое главное. Заметок об истоках и извилистых путях эволюции самого "завета" в книге практически не содержится, а вот "нарушение" - про это книга и есть. Безусловно, в рамках повествования "завет" есть чисто идеалистическое восприятие личного запрета на оглашение своего "низкого" происхождения. Но, в сущности говоря, "завет" - это система, в которой отверженные рождены на дне общества и отвергающие приглядывают за этим. Нарушение завета есть восстание против общества, а слом завета - гибель такого общества. Причём единичному человеку невероятно трудно осознать действительную гибель чего-то крупного. Тысячелетний дуб скорее дряхл или могуч? Трудно сказать с наскока.
И всё-таки завет был нарушен. Сам по себе слом старого ещё не даёт знания о новом, а зачастую затеняет новое, придавая ему образ жертвы обстоятельств, пострадавшей от случая. Фиксация на внутреннем мире героев и осуждение общественных пороков в рамках отношений отдельных людей - весьма характерны для японской литературы той поры. И хотя Тосон принадлежит скорее к поколению Нацумэ Сосэки, чем к когорте участников Сиракабы или коллег Рюноскэ Акутагавы, все они двигались в общем потоке, хотя не во всём были согласны.
Яркая образность, намеренный субъективизм в восприятии личной катастрофы, выразимый в формулах глубокой эмоциональности - за это мы, пожалуй, и любим психологизм в литературе. Но ахиллесовой пятой такого психологизма выступает разрыв между красивой сказкой о величии человеческого духа и реальностью. И несомненные достоинства "Нарушенного завета" продолжаются его недостатками. Вот в чём дело.
С одной стороны, концентрация на чувствах и мыслях героев - верный путь к разработке психологических портретов, с достоинством выдерживающих экзамен на правдивость; с другой стороны, история, развёрнутая вокруг одних только внутренних битв, создаёт впечатление, будто стоит страстям внутри героя поутихнуть, как мир преобразится. Стоит обрести мужество и стойкость духа, чтобы признаться в своём "низком происхождении", и проблема решится. О чём-то таком говорит тепличный хороший конец, до которого развивается история Сэгавы Усимацу-куна.
Но лучше оставить "вульгарную занимательность" сюжета и обратиться к его идейной направленности, которая, к моему счастью, никогда не имеет спойлеров.
Вопрос. Насколько веский повод необходим для оправдания угнетения больших групп населения? Феодализм и его сословные рамки, политическая пристрастность, социальное происхождение, этническая связь, религиозная вера, половые предпочтения, леворукость, инвалидность, красота, степень социальной адаптации, с какой стороны разбивать варёные яйца - предлагайте что-нибудь ещё, общество не поленится отвергнуть и Вас.
Иными словами, что угодно может стать поводом кого-то презирать, а значит, чтобы не было дискриминации, нужно уничтожить всё, что нас различает, но это, пожалуй, не выход. Проблема не в самой дискриминации. Что же делать?
Таков ответ Симадзаки Тосона, напоминающий скорее вилку в шахматной партии: подчиниться, умереть или сбежать. И что же главный герой выберет для счастья? Стоит прочитать.
Любая литература носит на себе печать своей эпохи. Это её уникальность, это её ограниченность. Во времена написания "Нарушенного завета" движение "синхейминов" за реальное равенство только начиналось, а потому его реализм соответствовал времени, за что мы его не осудим.
Но что ещё может сделать маленький человек в большом чуждом ему мире? Например, вести борьбу. Тем паче, что есть чем и за что.
Важно понимать, что Сэгава не сломленный человек, точка в летописи его жизни ещё не стоит, пусть общество и норовит сломать её. Однако Симадзаки Тосон не решается развивать в повествовании практическую сторону борьбы, не даёт даже иносказательного совета по поводу организации общественного движения, а оставляет нам финал, в котором все обязательно будут счастливы каким-то чудом и добротой отдельных людей.
Если общество стоит на месте, оно стагнирует и уходит с мировой арены, а значит в передовых обществах перемены неизбежны, и для обычных людей в том нет никакой радости. В каждой культуре есть свой завет, который будет нарушен. Вот только за кого выступать: за приверженцев классического, якобы правильного и общепринятого взгляда на проблему или за тех, кто раздует пожар перемен? Большой и хороший вопрос.

— А скажите, отец, — спросил Санкити, — что вы чувствовали, когда сгорел у вас тот дом, что вы сами построили?
— А ничего не чувствовал, — отвечал задорно старик. — Тому дому, видать, суждено было сгореть при пожаре. Все имеет свой конец. Так уж мир устроен.

Теперь то, что можно стерпеть, это еще не значит иметь терпение. Настоящее терпение - это когда приходится терпеть то, что терпеть невозможно.