
Ветер странствий

- 978 книг
Это бета-версия LiveLib. Сейчас доступна часть функций, остальные из основной версии будут добавляться постепенно.
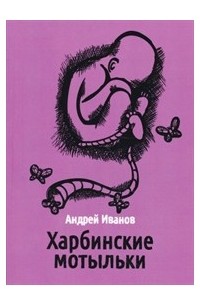
 Ваша оценка
Ваша оценкаЖанры
 Ваша оценка
Ваша оценка
«Задача языка — после Вавилонской башни — и заключается в непонимании».
Когда случаются социальные катастрофы вроде революций или войн, то людей «тяжелых» прибивает к земле, они долго приходят в себя, пытаясь осознать новую реальность, и остаются на своей земле, принимая свою участь, какой бы она ни была, «легких» же людей взрывной волной разбрасывает по миру с тем, чтобы каждый из них смог станцевать свой танец с судьбой там, где он оказался.
После октября 1917-го года (чуть не написала 2017-го, нет на меня дедушки Фрейда) непросто было бы найти на карте место, где бы ни оказалось трепещущего роя людей-мотыльков, покинувших Россию. И пусть название не вводит вас в заблуждение, речь пойдет не о Китае, а о жизни российских эмигрантов в Эстонии с 20-х по 40-е годы. Про Харбин тоже будет, и внимательные читатели смогут найти в названии определенный символизм, но… Такая такая история, что и мысли мечутся бестолковыми мотыльками, не давая сосредоточиться и описать впечатления связно и по порядку.
Признаюсь честно, я не только никогда не была в Эстонии, но и с довоенной историей стран Балтии была знакома весьма приблизительно. Вот, подумала, и познакомлюсь. Почему-то ждала от книги чего-то наподобие документального романа с большим количеством описаний, данных, цифр, ссылок на источники, выводов и обобщений. Но автор решил поступить со своим читателем и жестче и хитрее: резко взять за шкирку, оторвать от всего привычного и без лишних сантиментов бросить в холодный Таллинн (тогда – Ревель) прямо посреди людной улицы.
Не знаете эстонского? Не важно. Ведь вы же русский? Ну или, уж как минимум, русскоязычный? Значит, справитесь, разберетесь. Таких тут немало - оглушенных шумом времени, растерянных, неукорененных. Всё это люди, потерявшие свою родину и потерянные внутри. Очень разные люди. Монархисты, анархисты, прогрессисты, традиционалисты и куда-ветер-дует-исты, пребывающие в постоянном броуновском движении. Своеобразный Ноев ковчег с непарными тварями. Кто-то на рассвете понуро бредет на работу на фабрику, убеждая себя, что лучше так, чем замерзать без дров и не знать, чем накормить своих детей, кто-то пытается наладить свой бизнес разной степени прибыльности и законности ("Свой спирт — это все-таки кое-что"), кто-то поступает на службу плюс-минус с учетом имеющегося образования и навыков. Ну и, конечно, куда же без богемы? Ревель полон писателями, поэтами, художниками, журналистами.
Вино льется рукой. И если бы только вино. В ход идет всё, что помогает заглушить боль и отвлечься от окружающей реальности. "Нюхайте кокаин, поручик. Это бодрит", - предлагает один из героев другому. И не иначе как наркотическим угаром только и можно объяснить всё ту бешеную активность русскоязычной диаспоры, неизменно направленную в никуда. Учить язык? Ассимилироваться в местное сообщество? Налаживать свой быт? Нет, не слышали. Куда как лучше организовать стопятьсот разнообразных кружков, обществ, ячеек, выпускать газеты и листки, которые и читает-то только небольшой круг "своих", удариться в эзотерику или же попросту бесконечно сплетничать и ссориться, и заводить унылые интрижки. На фоне всего этого трэша и угара чуть ли не самыми адекватными персонажами кажутся циничные авантюристы, которые даже и не дают вида, что во что-то верят. "Нас финансируют за веру и идеи, а не за осуществление задуманного", - говорит один из героев. Главное получить "деньги утром", ведь возможно, что про "стулья вечером" и спрашивать-то некому будет. И вообще, если удастся хорошо заработать, то
Но тут ведь не выбирают: срубив по быстрому бабла, в Монако едет только тот, кто может. Это я не про деньги, конечно. А про тот ресурс, который у нас внутри, и про те вещи, которые влияют на человека, независимо от его желания.
Среди русских эмигрантов слишком много таких, с кем "что-то сделали", необратимо повлияли великие мыслители, философы, писатели, искусство, религия, воспитание ("Старый диван из комнаты можно выкинуть, а Достоевского не выкинешь"), они не могут ни стать практичными приспособленцами ни вернуть утраченное. Весь этот ресторанный полумрак, вино и наркотики становятся необходимыми, когда кошмарные образы не смываются с глаз, если искупать глаза в небе. Распалась не только связь времен, но и связь человека с небом как чем-то высшим и бесконечно прекрасным. И уже нет смысла зажигать свечи и поддерживать огонь.
В этой атмосфере декаданса и нарастающей тревожности есть своя красота. Можно назвать любование обреченной прелестью упадка извращением, но отрицать притягательность всего этого сложно. Текст романа хоть и пугающий, но и невероятно художественный, до предела наполненный образами, сложными метафорами и раскрывающий то, что у японцев называется "печальным очарованием вещей" ("Лужи вытянулись как покойники. Дома заглядывали в них, как в зеркала, проститься."). Тот случай, когда книгу можно читать не ради сюжета или идейно-философской составляющей, а ради наслаждения языком. Как писал один умный человек в своей рецензии на совсем другое произведение, "танцы птиц, порхание бабочек и ветер в соснах создают определённый созерцательный настрой".
Но даже и возникающий созерцательный настрой не помогает смириться с происходящим в романе и "отключить" эмоции. Хочется плакать, кричать, но ты не можешь и, вдруг, встречаешь на страницах книги абсолютно созвучное тебе:
Как же падки люди на подобные идеи! И 100 лет назад, и 50 лет, да и сейчас. Человеческая природа несовершенна.
Думаю, что уже понятно, что в такой книге нет и не могло быть главного героя с большой буквы , который мог бы стать идеалом или образцом для подражания. Рассказывая историю русского художника Бориса Реброва автор как будто с трепетом и нежностью прощается с последней иллюзией человека - идеей о том, что мир спасет красота. Борис не за "белых", но и не за "красных", он предельно аполитичен и будто бы привит от любых страшных идеологических поветрий, но за эту "прививку" ему пришлось дорого заплатить. Он совсем в юном возрасте по-человечки потерял так много и живет с такой внутренней затаённой болью, что внешние события затрагивают его гораздо меньше, чем его друзей и знакомых. "Вся моя жизнь, как кривая нога Ипполита из Madame Bovary, высохшая, как то дерево в парке: большей частью сухое, треснуло, но живет, так и я", - рассказывает о себе Ребров, и в этих словах, кажется, уже и горечи нет - только равнодушие. Борис работает в фотоателье и пишет картины. И не потому, что хочет славы и богатства, а потому что не может по-другому. Герой ощущает себя в большей степени как kunstnik, хужоджник, а не как живой человек. Он не выбирает, что ему рисовать, когда и как, происходит "чудо искусства", когда "закладываешь в голову Рембрандта, вынимаешь Пикассо".
Но Борис ждет совсем не этого чуда. Это замерзающий Кай, который знает, что Герда давно умерла, и есть лишь призрачная надежда, что можно сложить спасительный образ своими собственными ледяными пальцами.

Мир показал пятак свиной,
Мир обернулся войной.
Пожар, потоп и кровь, и гной,
А ты стоял к нему спиной
И тупо пил очередной
Маленький двойной.
Что будет, если на человека надеть шоры, обоссать и поджечь? Правильно, он сначала не почувствует, а потом побежит, размахивая руками, но не к реке, потому что не видит её. И не упадёт на землю, чтобы сбить пламя, катаясь, потому что у него мозгов не хватает. Вот так и главный герой книги Борис Ребров никак не может определиться, где он, что делать и почему вокруг так липко. Да, он в паутине, но не в Харбине, а в Ревеле, что потом станет Таллинном. Кокаин и домашнее вино помогают ему меньше видеть и слышать, а воспоминания о счастливом дореволюционном детстве - в присутствии отсутствовать. Не было ни единой важной вещи, замеченной им самим (кроме новых отличных сапог на витрине). Ни влюблённость девушки, ни контрабанда с фашистскими листовками, хранящимися у него в квартире, ни личность работодателя за 20 лет, ни болезнь ближайшего и единственного родственника - ничто не может прорвать пелену паутины вокруг этого человека.
Автор изящно даёт срез эпохи тончайшими деталями: заложенным в ломбарде фарфоровым сервизом; часами, вернувшимися к владельцу через третьи руки; отъездом немцев на родину "на всякий случай" и потому что "позвали"; нарастанием тревожности и разговорами про старые времена; дешевеющими марками и грядущей инфляцией на фоне дорожающего спирта и спичек...
Можно задаться вопросом, зачем нам ещё один "лишний человек"? В блистательном ряду нигилистов и онегиных-печориных Борис не будет в первых рядах, это ясно. Однако в этом произведении получилось передать трагедию ненужности красоты в двадцатых годах 20 века. Она не спасёт мир, как должна бы, а ещё больше утопит его. Передано это в том числе через проект всей жизни Реброва - тот, что принёс ему известность. Игрушки из дутого стекла, присыпанные пылью. Искажения отражений под пылью веков, где цвет неважен. За белых, красных или сам по себе, ты сможешь выжить только умерев. Под своим ли именем, для своей ли страны - но только окончательно и бесповоротно. Самба лилового нездорового мотылька, отравленного дустом декаданса. Danse macabre.

Эмиграция без пафоса и иллюзий. Трагикомедия с цеппелинами на заднем плане, фантасмагория паропанка, беспощадный абсурд реализма. Бесприютность быта и души. Ярчайший образ вавилонской башни - творения жизни главного героя, художника Бориса Реброва, - мне кажется, после его описания можно ничего больше не говорить. Вавилонское столпотворение, хаос беженства, потеря языка, детской веры в Бога и взрослой - в свою страну, разверстая бездна под ногами. Возведенный на полпути к небу привычный быт обрушивается - и перед нами сам процесс падения. С высоты, ускоряясь, сыпятся неотесанные глыбы, утонченные архитектурные излишки, рабочие инструменты и сами гордые архитекторы с грубыми чернорабочими. В падении с поднебесной башни нет возможности задержаться, ухватиться за... то, что падает вместе с тобой?..
Вавилонское столпотворение в прямом и переносном смыслах - вот что такое массовая эмиграция 1920-х. "Зачем я нужен? Спрягаю глаголы". Излишки мирного образования - латинские глаголы не помогут обустроить новый быт. Случайные вещи, схваченные из охваченного пожаром (в прямом и переносном смысле) родительского дома, обесценены - и бесценны только для тебя. Эмигранты десятилетиями не учат языки новой страны, потому что надеются вернуться к своей родине, которая вдруг стала чужой и совершенно непонятной. А соотечественники, вместе построившие до поднебесных высей империю, вдруг перестали понимать друг друга, даже формально разговаривая на одном языке. Хаос чувств после лет спокойствия и определенного будущего: страх, стыд, вина, смущение - все придется переступить. Интеллигентные беженцы на узлах после мировой катастрофы: "...сплошной salade russe" - "постоянно нужно что-то писать, нести, дрожать, сгорать внутренним пламенем". Случайные люди в лодке после кораблекрушения: художник, врач, контрабандист, наркоторговец, миллионер и нищий (а недавно наоборот), медиум, анархист, романтик, империалист, фашист, мессия и антихрист (как бы не ошибиться, кто из них кто), хрупкие, как бабочки, трогательные туберкулезные поэты, ненасытные и неистребимые, как моль, дельцы безвременья - все представляют из себя не себя, всё перемешивается, переплетается в одно и расплетается... и все - поэты... и всё это Россия. Хочется - чтобы именно тот тонкошеий нездешний мальчик... но все, все - Россия...
Случайные дешевые квартиры и углы, затянувшаяся жизнь "на вокзале в ожидании эшелоне, который понесет его дальше, на какой-нибудь невидимый фронт". Случайные знакомые, выбранные не из-за родства взглядов, а из-за вынужденного родства языка, безденежье, вечная жизнь за чей-то счет (и изредка кто-то живет за твой). Стыд и неловкость ломбарда. Неудержимые, неподконтрольные воспоминания, когда чужой город вдруг оборачивается Петербургом детства, или болезненный бред, или морфинистские видения - и невозможно отказаться от них, потому что воспоминания - тоже наркотики, дающие краткую иллюзию, краткое забвение: дореволюционный Петербург, аристократки с кружевными зонтиками и невинные гимназистки... Неслучайное искусство фотографии так метко сохранило всех - на дагерротипах все еще живы! Неужели это нельзя вернуть?.. Как не стремиться вернуть прошлое?!. Как не строить из осколков свою башню?.. Как можно принять свою бездомность и просто двинуться в мир, который вдруг стал таким большим и непонятным.
Смешные усилия: подпольные кружки, антисоветские листовки, ввезенные контрабандистами вместе со спиртом, иголками и лифчиками. Разноязычье сплетен, кто с кем спит, партии против организаций, зависть и шпиономания, неожиданные союзы, романы, предатели и гиперпатриоты, анархисто-христиано-нациофашисты. Да! Такой перспективный в связи с противостоянием коммунистам фашизм привлекателен еще и тем, что ставит цель отомстить евреям (а ведь помнится, сколько их стояло в большевистских рядах 1917-го). Люди, которые упорно живут невозвратимым прошлым или мифическим, никогда невозможным будущим. Как легко, смотря сверху, из будущего, осудить их, пожурить, посмеяться над ними...
При том, что тема русской эмиграции не в списке моих интересов, повествование заставляло сопереживать, захватывал поэтичный язык, россыпь искорок в тексте (красивые образы, меткие словечки, метафоры). И я легко обманулась, что писал не современник, что писано изнутри, из глубины, из самого того хаоса. Поэтому показалась простительной хаотичность повествования, при частом безумии персонажей казалось естественным необъяснимое перепрыгивание из дневников в рассказ, с третьего лица повествователя на первое. Разве такую неряшливость позволил бы себе современный автор намеренно? Такое естественное захламление бытом и идеями, путаницу персонажей, путаницу времен... Такой естественный переход из прозы к поэтическим галлюцинациям...
Но автор современник. И перед нами не документ - только художественный образ, один из возможных. Только несколько подретушированных дагеротипов. Всю вавилонскую башню по ним не соберешь...
Па-беларуску...
Эміграцыя без пафасу і ілюзій. Трагікамедыя з цэпелінамі, фантасмагорыя парапанку, суровы абсурд рэалізму. Беспрытульнасць побыту і душы. Яскравы вобраз вавілонскай вежы - твора жыцця галоўнага героя, мастака Барыса Раброва, - мне падаецца, пасля гэтага можна нічога больш не казаць. Бабілонскае стаўпатварэнне, хаос бежанства, страта мовы, дзіцячай веры ў Бога і дарослай - у сваю краіну, бездань пад нагамі. Узведзены на паўдарогі да неба звыклы побыт абрынаецца - і перад намі сам працэс падзення. З вышыні, паскараючыся, сыпяцца неабчасаныя глыбы, выкшталцоныя архітэктурныя лішкі, працоўныя прылады і самі пыхлівыя архітэктары з грубымі працаўнікамі. У падзенні з паднебнай вежы няма магчымасці затрымацца, ухапіцца за... тое, што падае разам з табой?..
Вавілонскае стоўпатварэнне ў прамым і пераносным сэнсах. "Зачем я нужен? Спрягаю глаголы". Эмігранты, якія дзесяцігоддзямі не вучаць мовы новай краіны, бо спадзяюцца вярнуцца да сваёй радзімы, што раптам стала чужой і цалкам незразумелай. Суайчыннікі, якія разам узвялі ў паднебныя высі імперыю і раптам перасталі разумець адно аднаго, нават фармальна размаўляючы на адной мове. Выпадковыя рэчы, схопленыя з ахопленага пажарам бацькоўскага дому, абясцэненыя і бясцэнныя толькі для цябе. Хаос пачуццяў пасля гадоў спакою і вызначанай будучыні: страх, сорам, віна, збянтэжанасць - усё давядзецца пераступіць. Бежанцы на вузлах пасля сусветнай катастрофы. "...сплошной salade russe" - "постоянно нужно что-то писать, нести, дрожать, сгорать внутренним пламенем". Выпадковыя людзі ў чоўне пасля караблекрушэння: мастак, лекар, кантрабандыст, наркагандляр, мільянер і жабрак (а нядаўна наадварот), медыум, анархіст, рамантык, імперыяліст, фашыст, месія і антыхрыст (як бы не памыліцца, хто з іх хто), крохкія, як матылькі, кранальныя сухотныя паэты, ненажэрныя і невыводныя, як моль, дзялкі пазачасоўя - усе строяць з сябе не сябе, усё перамешваецца, пераплятаецца ў адно і расплятаецца... і ўсе паэты... і ўсё гэта Расія. Хочацца - каб менавіта той тонкашыі пазасветны хлопчык... але ўсе, усе - Расія...
Выпадковыя танныя кватэры і вуглы, задоўжанае жыццё "на вокзале в ожидании эшелона, который понесет его дальше, на какой-нибудь невидимый фронт". Выпадковыя знаёмцы, абраныя не праз роднасць поглядаў, а праз вымушаную роднасць мовы, безграшоўе, вечнае жыццё за чыйсьці кошт (і зрэдку хтосьці жыве за твой). Сорам і няёмкасць ламбарду. Нястрымныя, непадкантрольныя ўспаміны, калі чужы горад раптам абарочваецца Пецярбургам дзяцінства, ці хваробныя трызненні, ці марфінісцкія відзежы - і немагчыма адмовіцца ад іх, бо яны таксама наркотыкі, што даюць кароткую ілюзію, кароткае забыццё: дарэвалюцыйны Пецярбург, арыстакраткі з карункавымі парасонікамі і нявінныя гімназісткі... Невыпадковае мастацтва фатаграфіі так трапна захавала ўсіх - на дагератыпах усе яшчэ жывыя! Няўжо гэта нельга вярнуць?.. Як не імкнуцца вярнуць мінулае?.. Як не будаваць з аскепкаў сваю вежу?.. Як можна прыняць сваё бяздом'е і проста рушыць у свет, які раптам стаў такім вялікім і незразумелым.
Смешныя намаганні: падпольныя гурткі, антысавецкія ўлёткі, увезеныя кантрабандыстамі разам з спіртам, іголкамі і станікамі. Разнамоўе плётак, хто з кім, суполкі супраць суполак, зайздрасць і шпіёнаманія, нечаканыя хаўрусы, раманы, здраднікі і гіперпатрыёты. І такі перспектыўны ў сувязі з супрацьстаяннем камуністам фашызм, прывабны яшчэ і тым, што ставіць мэту адпомсціць габрэям (а добра помніцца, колькі іх стаяла ў бальшавіцкіх шэрагах 1917-га). Людзі, якія ўпарта жывуць незваротным мінулым або міфічнай, ніколі немагчымай будучыняй.
Пры тым, што тэма рускай эміграцыі не ў спісе зацікаўленняў, аповед змушаў суперажываць, радавалі многія іскаркі ў тэксце (прыгожыя вобразы, трапныя слоўцы, метафары). І я лёгка падманулася, што пісаў тагачаснік, што пісана знутры, з глыбіні, з самога хаосу. Таму падалася даравальнай хаатычнасць аповеду, пры частым вар'яцтве персанажаў здавалася натуральным невытлумачальнае пераскокванне з дзённікаў у аповед, з трэцяй асобы на першую. Хіба такую неахайнасць дазволіць сабе сучасны аўтар наўмысна? Такое натуральнае захламленне побытам і ідэямі, блытаніна персанажаў, блытаніна часоў... Такі натуральны пераход з прозы ў паэтычнае трызненне.
Але аўтар - сучаснік. І перад намі не дакумент. Толькі мастацкі вобраз, адзін з многіх. Некалькі падрэтушаваных дашератыпаў. Па іх усю бабілонскую вежу не збярэш...

Как рыбы попадаются в пагубную сеть, и как птицы запутываются в силках, так сыны человеческие уловляются в бедственное время, когда оно неожиданно находит на них. (Екклесиаст 9:12)

Стихи были странные, то ли в них не хватало гласных, то ли было слишком много согласных… запомнил строчку:
"откупюрь у скупердяя том Бердяева".










Другие издания
