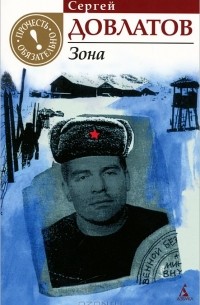
 Ваша оценка
Ваша оценкаРецензии
 Kemaikina22 октября 2010 г.Читать далее
Kemaikina22 октября 2010 г.Читать далееДо этой книги читала: "Ремесло" и "Иностранка", не ожидала, что в руки попадет совсем иное, не похожее на ранее прочитанное.
Читав, я попадала в совсем другой мир, мир тюрьмы. Зона.
Всё по понятиям, иные предпочтения, ценности (если они вообще есть). Главное не работать и достать швепса, т.е. выпить.
Как пишет сам Довлатов: "Обыденное становилось драгоценным. Драгоценное - нереальным".«Открытка из дома вызывала потрясение. Шмель, залетевший в барак, производил сенсацию. Перебранка с надзирателем воспринималась как интеллектуальный триумф».
И невозможно не подписаться под словами автора "Ад - это мы сами".
628 hatalikov29 августа 2025 г.
hatalikov29 августа 2025 г.Заметки под решёткой, записки из колючек, зарубки на плацу: рождение и становление тонко чувствующего литератора на грубом вохровско-воровском полотне реальности
Я всегда мечтал быть учеником собственных идей. Может, я достигну этого в преклонные годы...Читать далееТюремно-армейский томик Довлатова пестрит творческой историей, растянутой на десятилетия. Будучи надзирателем, накопив опыта и выплеснув его на заветные страницы, по возвращении в Ленинград он и не подозревал, что его детище соизволит меняться и переиздаваться с различными метаморфозами вплоть до скончания дней, а конечный результат выйдет уже посмертно. Впрочем, штрихи к картине взбодрят разве что упёртых поклонников, дотошно изучающих внутреннюю кухню писательского ремесла. Самое основное, что неплохо знать о сборнике перед прочтением — в отличие от какого-нибудь «Архипелага ГУЛАГ», книга не выглядит завершённым романом, а имеет хитроумную структуру, связывающую воедино чуть больше дюжины новелл. Так, Сергей Донатович, и без того пребывавший в переписке с собственным издателем, пунктирно внедрил в чистовик её выдуманную, переработанную версию, как бы склеив между собой безымянные фрагменты. (Те, в свою очередь, всё-таки в древнюю пору щеголяли заголовками, так что в рецензии они тоже озвучены ради кропотливого разбора материала.) Цементирующий повествование экспериментальный элемент вырос из идей хроники товарищеского суда и солдатского послания, но подобные интерпретации, увы, не прижились.
Мир был ужасен. Но жизнь продолжалась.Что ещё любопытно и не идентифицируемо невооружённым глазом — рассказы делятся на четыре «довольно обособленные группы», соответствующие «четырём группам персонажей»: лирический герой (то бишь сам автор), военные, зэки и офицеры охраны. Сам виновник торжества считал: все весточки в редакцию, как и приведённые сюжеты, обладают столь мизерным количеством логических и тематических переплетений, что их можно «тасовать и переставлять, будто секционную мебель», не боясь что-то выкинуть или упустить. Кстати, с этого мига вступил в полноценное существование текстовый приём, когда в каждом предложении не должно быть слов, начинающихся с одной буквы. Казалось бы, при таком скрупулёзном подходе проза рискует развариться и развалиться в котле амбиций, но «Зона» оказывается чем-то крайне педантично-самобытным в наилучшем смысле.
Главное — будьте снисходительны. И, как говорил зека Хамраев, отправляясь на мокрое дело, — с Богом!..Первое письмо издателю — о муках передачи черновиков через таможенные кордоны и их усердном восстановлении, сравнении с Солженицыным и трудностях договора с прочими издательствами о выпуске своего многострадального произведения.
Это — своего рода дневник, хаотические записки, комплект неорганизованных материалов.В «Иностранце», несмотря на фабульную обрывочность и туманность подтекста, присутствует яркий параллельный монтаж патриотических речей на выступлении подполковника и забоя свиньи за окном. Оттого благодарственное награждение радиста Пахапиля-младшего, не шибко смекающего, как и его отец, за что ему такие заслуги (авось — за заботу о павших бойцах, а коли не наивно, так о мертвецах), на контрасте зиждется печальным абсурдом повседневности, а абсурд как раз и задуман главным речитативом всего лагерного собрания сочинений.
«Зачем эстонцу медаль?» — долго раздумывал Пахапиль.
И всё же бережно укрепил её на лацкане шевиотового пиджака.Второе письмо издателю — лаконичный автобиографический реверанс, перетекающий в густое и мрачное (но с присущей сатирической ноткой) умозаключение о том, как трансформируется ценностная шкала в кандалах и оковах, вынуждая ломаться или выживать.
Есть такой классический сюжет. Нищий малыш заглядывает в щёлку барской усадьбы. Видит барчука, катающегося на пони. С тех пор его жизнь подчинена одной цели — разбогатеть. К прежней жизни ему уже не вернуться. Его существование отравлено причастностью к тайне.
В такую же щель заглянул и я. Только увидел не роскошь, а правду.В «Чудо МИ-6» нашкодившему пилоту подворачивается внезапный сюрприз, становящийся олицетворением непоколебимой поддержки и озорного хулиганства вопреки устоям сложившейся системы, но зыбкий призрак надежды, мелькнувший на горизонте, растворяется в неумолимом течении бытия.
Каждое утро подконвойные долбили сухую землю. Затем шли курить. Они курили и беседовали, сидя под навесом. Кукольник Адам рассказывал о первой судимости.
Что-то было в его рассказах от этого пустыря. Может, запах пыльной травы или хруст битых стёкол. А может, бормотание кур, однообразие ромашек — сухое поле незадавшейся жизни...Третье письмо издателю — про то, как под воздействием защитной реакции раздваивающееся восприятие ограждает от пагубы травмирующих инцидентов.
Не важно, что происходит кругом. Важно, как мы себя при этом чувствуем. Поскольку любой из нас есть то, чем себя ощущает.В «Голосе» довлатовское альтер-эго Алиханов в Новый год назначается контролёром пьянки, однако попытки не пренебречь честью меркнут перед инстинктивным, поразившим всех соблазном — и Борис в глухую ночь оправляется грешить, а после обнаруживает в себе непреодолимую тягу к спасительной литературной деятельности. Это своего рода горки с непредсказуемой градацией настроения и событийности, предоставляемые читателю во внимание. Алкогольный дурман смешно и нелепо валит навзничь коллег и «сожителей» протагониста, что, выразив протест против грядущего разврата, потом и сам перевоплощается в антагониста (но мягко, без перегибов), а накрывшая его эфемерная цепь ощущений и воспоминаний вообще приводит в невероятную, хотя и очень закономерную точку. И всё здесь в моменте так противоречиво, исключительно чтобы далее свернуть на надёжную колею, демонстрируя абсолютно разные грани в одном человеке.
— Как ты думаешь, Бог есть?
— Маловероятно, — сказал Алиханов.
— А я думаю, что пока все о'кей, то, может быть, и нет его. А как прижмет, то, может быть, и есть. Так лучше с ним заранее контакт установить…Четвёртое письмо издателю — философские полёты мысли, цитаты и обобщения о полярных путях революционера, моралиста и художника; о нужности банальных истин; о величии духа над телесной могучестью; об адаптивности в тех или иных обстоятельствах, а потому бесполезности деления всех на положительных и отрицательных индивидов; о тюрьме как модели государства в СССР.
Тысячу раз я слышал: «Главное в браке — общность духовных интересов».
Тысячу раз отвечал: «Путь к добродетели лежит через уродство».В «Медсестре Раисе» мы знакомимся, не трудно догадаться, с медсестрой Раисой и слегка приоткрываем завесу её личной жизни. Попутно из предыдущих отрывков перешагивают сюда инструктор Пахапиль и ефрейтор Петров/Фидель, дабы организовать бестолковый альковный треугольник сугубо для сцены ревности, не выходя дальше стандартной хохмы-зарисовки с парой забавных деталей.
Кладбище служило поводом для шуток и рождало мрачные ассоциации.
Выпивать солдаты предпочитали на русских могилах...
Я начал с кладбища, потому что рассказываю историю любви.Пятое письмо издателю — о сходных чертах и взаимозаменяемости каторжников и охранников.
Мы были очень похожи и даже — взаимозаменяемы. Почти любой заключённый годился на роль охранника. Почти любой надзиратель заслуживал тюрьмы.В «Марше одиноких» (ранний вариант — «Купцов и другие») происходит интересный обман ожиданий. Несколько пространное, с размытыми и частыми географическими уточнениями, бытописание изоляторных пленников и их «цепных псов» всех мастей балансирует на ментальных качелях, то иронично фокусируясь на радужных перспективах Пахапиля, то аккуратно подводя к уникуму — потомственному вору Купцову. Именно через него Алиханов утверждается в теории о равенстве, изложенной в «пятом письме», а свидетельство нагрянувшей несправедливости отражает нестабильность нравственного ориентира в стенах исправительного учреждения, когда блюстители порядка носят звериную личину, а принципы закоренелого преступника порой строже, крепче и честнее их вальяжной вседозволенности. Тут авторское мастерство достигает ещё большего накала, чем в «Голосе», даруя душераздирающую кульминацию и бескомпромиссную, жёсткую концовку.
Я схватил его за борт телогрейки:
— Послушай, ты — один! Воровского закона не существует. Ты один...
— Точно, — усмехнулся Купцов, — солист. Выступаю без хора.
— Ну и сдохнешь. Ты один против всех. А значит, не прав...
Купцов произнёс медленно, внятно и строго:
— Один всегда прав...Шестое письмо издателю — радикальный переворот ракурса: пара заметок об Америке, заплыве на Миссисипи, босяках под ресторанными столиками и спонтанной экзальтации от сытых будней.
Допустим, счастья нет. Покоя — нет. И воли — тоже нет.
Но есть какие-то приступы бессмысленного восторга. Неужели это я?В «У костра» гопник Ерохин и прораб Замараев ностальгируют и чуть не конфликтуют на лесоповале, но как-то по-свойски, по-дружески. Драматургия разговора проявляет непохожесть их характеров и пристрастий, перемежаясь отборным жаргоном и освещая животрепещущие мотивы — тоска по дому, деньги как признак благодати, разница между сексом и любовью... Но общего языка им не отыскать.
«Кого только не прихватывают», — думал Ероха.
«Откуда такие берутся?» — вторил ему прораб…Седьмое письмо издателю — беспрекословный трактат о произвольности добра и зла.
Мы без конца проклинаем товарища Сталина, и, разумеется, за дело. И всё же я хочу спросить — кто написал четыре миллиона доносов? (Эта цифра фигурировала в закрытых партийных документах.) Дзержинский? Ежов? Абакумов с Ягодой?
Ничего подобного. Их написали простые советские люди. Означает ли это, что русские — нация доносчиков и стукачей? Ни в коем случае. Просто сказались тенденции исторического момента.В первой части разделённых натрое кусков бывшей утерянной повести «Капитанов на суше» нежная мелодрама соседствует с саспенсным триллером. Уехавший в сочинский отпуск капитан Егоров сталкивается как с мимолётной амурной гармонией, грозящей обернуться серьёзными намерениями, так и с пошатывающей идиллию фигурой из прошлого. В подтверждение ранее высказанного постулата об этической двойственности писатель обличает, как в мирной обстановке носитель негативной функции преображается, ведя себя совсем иначе, пока над его головой висит посланный кармой дамоклов меч.
Егоров снисходительно пил рислинг, а Катя говорила:
— Нужно вырваться из этого ада... Из этой проклятой тайги... Вы энергичны, честолюбивы... Вы могли бы добиться успеха...
— У каждого своё дело, — терпеливо объяснял Егоров, — своё занятие... И некоторым достаётся работа вроде моей. Кто-то должен выполнять эти обязанности?
— Но почему именно вы?Восьмое письмо издателю — анализ значения побочного эффекта свободы для арестантов и эмигрантов.
Обидно думать, что вся эта мерзость — порождение свободы. Потому что свобода одинаково благосклонна и к дурному, и к хорошему. Под её лучами быстро расцветают и гладиолусы, и марихуана...Во второй части «Капитанов на суше» уже ставшая, судя по всему, женой Егорова мечтательная особа Катя Лугина с досадой переносит тяготы брака и барачной зимы — не помогают ни Моцарт, ни эскапизм, словно заимствованный у Краснопёрова в довлатовской «Иной жизни». И только её муж норовит подсобить в комфорте — иногда весьма спорными способами.
— Ладно, — сказал он, — всё будет хорошо. Всё будет просто замечательно.
— Неужели всё будет хорошо?
— Всё будет замечательно. Если сами мы будем хорошими...Девятое письмо издателю — хвалебная ода выразительности и несокрушимости лагерного диалекта.
Искусство лагерной речи опирается на давно сложившиеся традиции. Здесь существуют нерушимые каноны, железные штампы и бесчисленные регламенты. Плюс — необходимый творческий изыск. Это как в литературе. Подлинный художник, опираясь на традицию, развивает черты личного своеобразия...В третьей и заключительной части «Капитанов на суше» изображается расшатанное состояние Егорова, встревоженного из-за некой операции у супруги, лежащей в больнице. К счастью, опасения не оправдаются, зато мы убедимся, что странный союз не развалился и нынче трепетная Катерина может спать спокойно.
Медсестра в регистратуре напевала:
Подари мне лунный камень,
Талисман моей любви...Она показалась Егорову некрасивой.
Десятое письмо издателю — про важность застеночной эпистолярной коммуникации с семьями (что с оговорками применяется к ждулям, они же — «заочницы») и символическую святость в глазах невольников любых женщин как таковых.
Очевидно, заключённому необходимо что-то лежащее вне его паскудной жизни. Вне зоны и срока. Вне его самого. Нечто такое, что позволило бы ему забыть о себе. Хотя бы на время отключить тормоза себялюбия. Нечто безнадёжно далёкое, почти мифическое. Может быть, дополнительный источник света. Какой-то предмет бескорыстной любви. Не слишком искренней, глупой, притворной. Но именно — любви.
Притом, чем безнадёжнее цель, тем глубже эмоции.В «На что жалуетесь, сержант?» Алиханову вновь предстоит столкнуться с моральной дилеммой о том, поступить ли по-человечески или бесчеловечно проигнорировать бушующий балаган. На сей раз обойдётся без заблудших на базу девиц и филонящих фраеров, но готовящаяся в бараке поганка и всестороннее к ней безразличие побудят к решительным манёврам. Кольцевая композиция с походом к доктору, новорожденные щенки и взбесившиеся псы, нацарапанные на стульях ругательства и лютый холод с парадоксально пожароопасными последствиями — всё это филигранно дополняет хоровод безнадёги и отчаяния, танцуя в котором, стоит чудовищных усилий не растратить остатки совести.
Рано утром я постучался к доктору. В его кабинете было просторно и чисто.
— На что жалуетесь? — выговорил он, поднимая близорукие глаза.
Затем быстро встал и подошёл ко мне:
— Ну что же вы плачете? Позвольте, я хоть двери запру...Одиннадцатое письмо издателю — эпизод под Иоссером о «беспределе» Макееве и учительнице окрестной школы, чьи чувства вспыхнули на расстоянии, а также об их единственной щемящей встрече.
Заключённые пошли. Кто-то из рядов затянул:
...Где ж ты, падла, любовь свою крутишь,
С кем дымишь папироской одной!..Но его оборвали. Момент побуждал к тишине.
В «Случае на заводе» степенный распорядок дня с предустановленным режимом, рутинными процедурами и сбивчивыми экспедициями в сонные грёзы прерывается трагической кончиной наркомана Бутырина. Поднятый хаос практически лишён подробной иллюстративности: указующий перст рассказчика выхватывает из истеричной гущи самого Григория Тихоновича, уклонявшегося от цепких лап погибели кучу раз, а сейчас обретшего долгожданный покой. Осматривает. Рефлексирует. Делает выводы. Даёт уйти. Вот он был. А вот его не стало.
Скоро приедет воронок. Труп погрузят в машину. Один из нас доставит его под автоматом в тюремную больницу. Ведь мёртвых зеков тоже положено охранять.Двенадцатое письмо издателю — напоминание о лояльности осуждённых к правящему строю, выражающейся в изобразительном и песенном искусстве, в массовом сознании и мифотворчестве.
Емельян Пугачёв, говорят, опирался на беглых каторжников. Теперешние каторжники бунтовать не собираются. Случись какая-нибудь заваруха, и пойдут они до ближайшего винного магазина...В «Я — провокатор» новоявленный вохровец, испытывающий уважение к погрязшему в кризисе капитану Токарю, однажды приглашается на ужин с сидельцами, но вскоре катастрофически жалеет об этом. Композиционно и психологически достойная партитура разыгрывается как по нотам — от флэшбека в истоки службы через трепанацию личности дяди Лёни к ключевому шокирующему апофеозу, продолженному эмоциональным взрывом, давящим признанием и траурными флюидами с целью пристроить там, где требуется, наилучшее многоточие.
В моём кармане лежала инструкция. Четвёртый пункт гласил:
«Если надзиратель в безвыходном положении, он даёт команду часовому — “СТРЕЛЯЙТЕ В НАПРАВЛЕНИИ МЕНЯ…”»Тринадцатое письмо издателю — приписка из четырёх предложений об отправителе рукописи, не располагающая к глубокой диагностике.
Всё дико запуталось на этом свете.В «Представлении» Алиханова посылают в соседний лагпункт, чтобы привезти оттуда заключённого по кличке Артист для постановки пропагандистского спектакля «Кремлёвские звёзды» к шестидесятилетию советской власти. Комичные репетиции раскрывают особенности темперамента как заезжего «актёра», так и нескольких его сценических партнёров, ведя к необычайному перевоплощению, но финальный показ осуществляется не совсем так, как планировалось. И всё же пик праздника объединяет рецидивистов в сплошном и искреннем порыве, а на Борю накатывает стихийный катарсис.
Вдруг у меня болезненно сжалось горло. Впервые я был частью моей особенной, небывалой страны. Я целиком состоял из жестокости, голода, памяти, злобы... От слёз я на минуту потерял зрение. Не думаю, чтобы кто-то это заметил...Четырнадцатое письмо издателю — объяснение, почему пришлось отказаться от спекулятивных манипуляций с аудиторией, не прибегнув к смакованию жути.
Я пишу — не физиологические очерки. Я вообще пишу не о тюрьме и зеках. Мне бы хотелось написать о жизни и людях. И не в кунсткамеру я приглашаю своих читателей.В «По прямой» Боб (кто бы это мог быть? ах да…) с Фиделем и Балодисом пускаются в алкотрип, неизбежно ведущий к гауптвахте, проверке дружбы, винной паузе с торфушками и экзистенциальному прозрению. Невзирая на некоторую путаницу в пространстве, зудящую в мозгу при передвижениях ребят, плюсов всё же предостаточно: смена парадигмы после их уморительных приключений оправданно обращает братское буйство в саднящую рану, залитую хандрой и немощью, понятной тем, кто когда-то застрял не в то время и не в тех условиях. Развязка с размаху ударяет под дых — и всё в экстремальной ясности предстаёт таким, каким обязано быть.
И тут я ощутил невыносимый приступ злости. Как будто сам я, именно сам, целился в этого человека. И этот человек был единственным виновником моих несчастий. И на этом человеке без ремня лежала ответственность за все превратности моей судьбы. Вот только лица его я не успел разглядеть...Пятнадцатое письмо издателю — прощание с примесью рассуждений о парадоксальности фатума.
Набоков говорил: «Случайность — логика фортуны». И действительно, что может быть логичнее безумной, красивой, абсолютно неправдоподобной случайности?В послесловии Андрея Арьева — краткая сводка о создании сиих (не)вольных мемуаров с чётким критическим вердиктом.
«От хорошей жизни писателями не становятся» — эту мысль Михаила Зощенко Сергей Довлатов особенно ценил и часто повторял, когда речь заходила о цене, которую художник платит за свои творения, о цене славы.ИТОГ
Не в обиду предъявить толк, что отчасти перед нами — специфическое чтиво. Не всем ярым ценителям гуманной и позитивной ипостаси Сергея Донатовича приглянется суровая, промозглая атмосфера, царящая посреди строк, испещрённых зачастую вовсе не ангельскими курьёзами, манерами и выражениями. Кому-то, наоборот, не хватит цельности и остроты впечатлений, ибо погружение в самую гущу пёстрых зверств выдаётся без фанатизма и настырного акцента. У тех, кто не подкован в наличествующей терминологии, топографическом ориентировании или превратностях запечатлённой эпохи, очевидно, закипит котелок. И всё же мужественное нисхождение в эту необъятную хтоническую кашу с редкими проблесками недюжинного оптимизма — замечательный документ становления Довлатова как писателя. Отсюда и растут «ноги» его таланта, замешанного на печали, радости и житейской мудрости. Из скользких решёток и татуированных паханов. Из шконок и нар. Из офицерских портянок, лежнёвок и страха. Из блата и мата. Из шаткой, но пробивающейся как цветок через асфальт уверенности в том, что всё это может быть не зря, ведь позже найдёт своё утешение в тексте, в языке, в даре — ибо так суждено. Так правильно. Так верно.
Солженицын описывает политические лагеря. Я — уголовные. Солженицын был заключённым. Я — надзирателем. По Солженицыну, лагерь — это ад. Я же думаю, что ад — это мы сами...5159 vino-gradov-9029 сентября 2024 г.
vino-gradov-9029 сентября 2024 г.Алло, Роза! Я-Пион!
Читать далееИменно армейская молодость и служба в лагере, по воспоминаниям Довлатова, сформировали его тонкую организацию и сделали из него писателя. Ему как диссиденту пришлось исхитриться, чтобы отрывки дошли до читателя с помощью многих неравнодушных людей. Многое утрачено и восстановлению не подлежало. Поскольку ощущение «в той шкуре» забыто.
Разрозненные части скреплены письмами к издателю, где объясняются некоторые жаргонные слова, говорится о буднях писателя в Америке, ведется дискуссия о пережитом опыте в зоне. И в целом, данная подача интересна. Ответов от издателя нет. И получается своего рода монолог вперемешку с рассказами.
Это новое и смелое слово в лагерной прозе. Сложно найти что-то рассказанное не жертвой/заключенным, что и логично. Сравнивая с мемуарами Петкевич или того же Солженицына, чувствуется, что к 70-м годам режим смягчился. Заключенные практически свободно перемещаются по зоне, у них есть доступ к алкоголю и махорке, лагерные надзиратели потворствуют и на многое закрывают глаза. Да и контингент сплошь убийцы да воры. Без политических.
Идея произведения в том, чтобы показать зону как мини-модель государства. Неважно по какую сторону проволоки ты находишься. Все в одной лодке. Человек может и вознестись героем и низко пасть. И на все воля случая, фактор обстоятельств и времени. И, конечно же, зона не исправляет, а приручает. З/к неспособен вернуться к нормальной жизни. Поэтому-то один из них совершает преступление за 5 часов до освобождения.
Для меня главной проблемой было перевод многих жаргонизмов и устаревших слов. Но теперь, точно запомню, что «штырь» это уборщик, а «кирять» это пить. Думаю, что лексикон ваш здесь невольно обогатится.
5258 user_alex_nikolaevna14 мая 2024 г.Читать далее
user_alex_nikolaevna14 мая 2024 г.Читать далееСовсем небольшой сборников историй надзирателей и заключенных.
Довлатов хотел показать жизнь людей, работающих на зоне и то, что все люди там становятся похожими. Он показал единство людей, находящихся по две стороны: на воле и в заключении.
Роман написан в эпистолярном жанре - автор пишет письма, с отрывками историй, в издательство. Это помогло лучше понять мысли автора и связаться это с конкретной историей.
Многие слова из блатного мира были не всегда понятны и тогда спасал интернет, где можно подглядеть значение этих словечек, так как я далека от такого сленга
5244 waybert_v3 апреля 2024 г.
waybert_v3 апреля 2024 г.Так и не понял, что хотел мне сказать Довлатов
Мне нравится Довлатов. Но не это произведение. Прочитайте у него что-то другое. «Чемодан», например.Читать далее
Видно, что автор хотел многое сказать из пережитого и что-то получилось точно, хорошо. А вот целое произведение создает впечатление вымученного, сырого, нецельного. У меня не получилось вовлечься. Перечитывал, чтобы уловить какую-то важную суть, которую Довлатов до меня доносит. А как будто этой важной сути и нет. Обиды есть, травмы автора есть, злость есть и все это для дневника хорошо. Произведения нет.5283 Runevskaya18 июля 2023 г.Читать далее
Runevskaya18 июля 2023 г.Читать далееЯ решила начать своё знакомство с Довлатовым с произведения Зона, тема которого мне достаточно интересна. После прочтения некоторых рецензий я думала, что книга будет более жестока, чем это оказалось при прочтении. От чтения было просто не оторваться. Повесть состоит из записок о тюремной жизни. Довлатов, как и его герой, сам служил надзирателем в лагере и хорошо познал эту самую "жизнь". Герои произведения - люди с совершенно разными характерами. Здесь хорошо описан тот факт, что заключённый может быть человечнее охранника, а охранник аморальнее зека. И положению их не позавидуешь. Рядовой Алиханов (главный герой) же личность в лагере исключительная. У него осталась совесть. И побороть он её не может. За что он не раз поплатился. Очень мне понравились взаимоотношения Алиханова и Купцова. На первый взгляд эти герои противоположны. Но Алиханов видет в зеке что-то своё. А именно исключительность. Купцов тоже не похож на остальных заключённых. Все сдались, а он идёт до конца. Героев объединяет сила духа и верность своим принципам. Они недавидят друг друга, но при этом и любят. Уважают. А ненависть и любовь - это два сильнейших чувства. И грань их очень зыбка. Очень жаль, что эпизодов в книге так мало.
5322 Oldry28 апреля 2019 г.
Oldry28 апреля 2019 г.All Along The Watchtower
Читать далееНекоторое время назад начинал читать этот небольшой сборник, но на тот момент истории оказались слишком трудноваримыми, но для сегодняшнего меланхоличного дня отличный выбор.
Было любопытно сравнить опыт автора и собственный опыт в армии, это конечно не очень правильно, но некоторое подобие все же есть, особенно истории с замполитом.
Короткие рассказы без сквозного сюжета, разбавленные интермедиями в формате писем к издателю. Повествование емкое и скупое, рождает глубинную в своей резкости историю.
5596 O_L_S8931 июля 2018 г.Читать далее
O_L_S8931 июля 2018 г.Читать далееА я сегодня книгу прочитала. За ночь, в прямом смысле этого слова. Довлатова. «Зону». Внезапно, да?
Во-первых, томик был внезапно найден на полках у родителей.
Во-вторых, в 2015 году ходили на творческий вечер Александра Филиппенко, и он читал отрывок - на зоне ставили спектакль в честь 7 ноября, про Ленина, Дзержинского. И увидев томик «Зоны» что-то мне подсказало - вот и источник. И если б не это обстоятельство, то может (крайне маловероятно!) я б и не взялась за «Зону».
Книга - записки Довлатова о работе надзирателем, чередующиеся с письмами к редактору с просьбой опубликовать эти записки. Уже будучи в Америке. Это не цельное повествование, так как материал был сфотографирован и вывезен за границу мыслимыми и немыслимыми способами. Так что появлялись записки по мере поступления и в довольно разрозненном состоянии. «От хорошей жизни писателями не становятся» - считал Михаил Зощенко. Вот и Довлатова посетила муза писательства после трёх лет университетов в системе ВОХРа.
Цель Довлатова - не описывать ужасы и физиологию лагерной жизни. Книга о жизни и людях, как говорит сам автор. О том, до какого животного состояния может дойти человек. О том, как мало различий между надзирателем и заключённым. О свободе и её относительности. О добре, зле и , опять же, их относительности.
«...дело в том, что зло произвольно. Что его определяют - место и время. А если говорить шире - общие тенденции исторического момента. <...> Поэтому дай нам Бог стойкости и мужества. А ещё лучше - обстоятельства времени и места, располагающих к добру...»5820 pAzharik28 апреля 2016 г.Читать далее
pAzharik28 апреля 2016 г.Читать далееЭта книга далась мне непросто, было очень и очень сложно ее читать. При чем я с бОльшим интересом читала письма-вставки автора перед рассказами. А сами рассказы, вот их то я и читала через силу, буквально продираясь сквозь текст, хоть и написано очень даже неплохо. Наверное это все из-за специфичности тематики, из-за блатного слэнга, из-за того, что описывается жизнь, к которой я не привыкла (и надеюсь не узнаю никогда).
И я поняла одно, что после Довлатова остается какое-то тяжелое, горькое послевкусие ощущение безысходности.. безнадеги что ли.5125 rcooking21 сентября 2015 г.— Тебе Эдита Пьеха нравится? Только откровенно.Читать далее
rcooking21 сентября 2015 г.— Тебе Эдита Пьеха нравится? Только откровенно.Читать далее
— Еще бы, — сказал я.
— На лицо и на фигуру?
— Ну.
— А ведь ее кто-нибудь это самое, — размечтался Фидель.
— Не исключено, — говорю.В этом обзоре я не смог обойтись без большого количества цитат.
У меня есть небольшая история, связанная с этой повестью.
В детстве, наверное, когда я только научился хорошо читать, я случайно наткнулся на эту книгу в каком-то кафе, где был с родителями по работе. Пока я был предоставлен самому себе, я пошел в часть зала где вообще не было людей. Там был небольшой стеллаж с вазочками и книгами. С обложки одной из них на меня смотрел бородатый дядька. Рядом со стеллажом на столе одиноко лежала книга, она будто ждала меня. Я взял ее в руки, открыл на случайной странице и прочитал:
- Скоро Новый год. Устранить или даже отсрочить это буржуазное явление партия не в силах. А значит, состоится пьянка. И произойдет неминуемое чепе.
В общем, пей, Фидель, но знай меру...
- Я меру знаю, - сказал Фидель, подтягивал брюки, - кило на рыло, и все дела! Гужу, пока не отключусь... А твой Прищепа - гондовня и фрайер. Он думает - праздник, так мы и киряем. А у нас, бляха-муха, свой календарь. Есть "капуста" - гудим. А без "капусты" что за праздник?!. И вообще, тормознуться пора. Со Дня Конституции не просыхаем. Так ведь можно ненароком и дубаря секануть... Давай скорее, я тебя жду... Ну и погодка! Дерьмо замерзает, рукой приходится отламывать.
Я тогда мало что понял, но примерное содержание отрывка запомнил почему-то на всю жизнь. Спустя много лет я наткнулся на одном сайте на подборку цитат Довлатова. Его лицо смотрело на меня с фото, оно будто было знакомо, хотя, кажется, я раньше и не знал о его существовании. Но я точно знал, что видел его раньше. Прошло еще несколько лет, я решил составить список книг, которые хочу прочитать и опять случайно наткнулся на эту фамилию. Посмотрел документалку про жизнь Сергея Довлатова и добавил несколько книг в список, в том числе Зону.
И вот, представьте себе, я добрался до очередной новеллы из этого сборника и натыкаюсь на ту самую цитату, которую прочитал много лет назад.
Книга очень понравилась. Как и в случае с любым стоящим произведением - лучше один раз прочесть, чем слышать отзывы о ней. Хотя некоторые отзывы, все же, стоит отметить.
Довлатов печатался в Нью-Йоркере и там была аннотация на отрывок из Зоны:
Герои Довлатова горят так же ярко, как у Солженицына, но в гораздо более веселом аду.В книге много мыслей, одна интересней другой. Например, автор не делит людей на черное и белое:
Поэтому меня смешит любая категорическая нравственная установка. Человек добр!.. Человек подл!.. Человек человеку — друг, товарищ и брат…
Человек человеку — волк… И так далее.
Человек человеку… как бы это получше выразиться — табула раса. Иначе говоря — все, что угодно. В зависимости от стечения обстоятельств.
Человек способен на все — дурное и хорошее.Перед прочтением может сложиться образ книги, повествующей исключительно о жизни внутри тюремного барака, однако Сергей Донатович вышел далеко за рамки этого:
Я решил пренебречь самыми дикими, кровавыми и чудовищными эпизодами лагерной жизни. Мне кажется, они выглядели бы спекулятивно.
Эффект заключался бы не в художественной ткани, а в самом материале.
Я пишу — не физиологические очерки. Я вообще пишу не о тюрьме и зеках. Мне бы хотелось написать о жизни и людях. И не в кунсткамеру я приглашаю своих читателей...здесь автор перечисляет то, о чем он мог бы написать в этой книге, но не стал
...Итак, самые душераздирающие подробности лагерной жизни я, как говорится, опустил. Я не сулил читателям эффектных зрелищ. Мне хотелось подвести их к зеркалу.5117