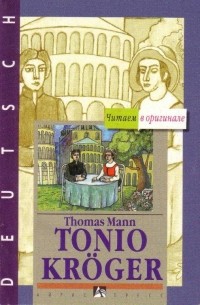
 Ваша оценка
Ваша оценкаРецензии
 nika_816 мая 2020 г.
nika_816 мая 2020 г.«Жизнь коротка, искусство долговечно»
Они сошлись. Волна и камень,Читать далее
Стихи и проза, лёд и пламень
Не столь различны меж собой.А.С. Пушкин
Молодой мужчина, стараясь остаться незамеченным, подглядывает за людьми, собравшимися в просторной зале. Кто-то танцует, кто-то расположился за карточным столом. Однако нашему наблюдателю особенно интересны двое, мужчина и женщина. Завладевшая вниманием Тонио Крёгера (а именно так зовут героя) пара излучает незамысловатую радость жизни и «вызывает представление о чистоте, неомрачённом благодушии, весёлости, простом и горделивом целомудрии».
Если вы ничего не знаете о новелле Томаса Манна, то прочитав этот короткий пассаж, можете подумать, что речь, вероятно, идёт о каком-нибудь сталкере, настойчиво преследующем влюблённую пару...
На самом деле писатель с необычным для добропорядочного немецкого бюргера именем Тонио, приехав на отдых в приморский датский городок, случайно встречает знакомых из детства - Ганса и Инге. По иронии судьбы Тонио был когда-то поочерёдно влюблён в них обоих. Ранние юношеские увлечения остались в прошлом, он покинул свой родной город и стал следовать своим, далеко не всегда ровным и понятным путём. Крёгер – известный писатель, который посвятил себя служению царству духа и «холодным экстазам испорченной нервной системы». Он не живёт по-настоящему, а созерцает жизнь. По его мнению, подобная отстранённость необходима, чтобы создавать настоящие произведения искусства. Творцы – это особая каста, у которой мало общего с такими «Гансами» и «Инге». Художник противопоставляется филистеру, бюргеру. И в этом, считает категоричный Тонио, крест творцов.
Владенье стилем, формой и средствами выражения — уже само по себе предпосылка такого рассудочного, изысканного отношения к человеческому, а ведь это, по сути, означает оскудение, обеднение человека. Здоровые, сильные чувства — это аксиома — безвкусны. Сделавшись чувствующим человеком, художник перестает существовать.Он не может, да и не хочет избавиться от чувства зависти к обывателям - к тем, кто просто живёт обычной жизнью, «звёзд с неба не хватает», зато переживает искренние чувства… Тонио не верит, что истинный творческий процесс совместим с обыденной жизнью, которую ведёт большинство здоровых людей.
Он делится своими ощущениями со своим другом, художницей Лизаветой:
Царство искусства на земле расширяется, а царство здоровья и простодушия становится всё меньше. Надо было бы тщательно оберегать то, что ещё осталось от него, а не стараться обольщать поэзией людей, которым всего интереснее книги о лошадях, иллюстрированные моментальными фотографиями.В новелле Томас Манн поднимает вопросы, которые волнуют его самого как художника, находящегося в вечном поиске. Именно этот элемент личного придаёт рассказу особую меланхоличную поэтичность, которая вначале кажется несколько скучной, но потом ею проникаешься. Автобиографичный аспект просматривается и в описании родителей юного Крёгера - респектабельного консула и черноволосой красавицы с иностранными корнями...
Нужно ли чувствовать и погружаться в пучину жизни, чтобы создать по-настоящему талантливое произведение? Или, наоборот, нужно дистанцироваться от жизни с её постоянным хаосом, банальными происшествиями и эмоциями и, выступая в роли созерцателя, только холодно препарировать наблюдаемое? Правда ли, что существуют две «породы» людей: простые люди, которых радуют обычные вещи, и стоящие особняком творцы, созидатели? Тонио, кажется, не нашёл убедительного ответа на этот вопрос, но в конце его вера в необходимость постоянного соблюдения дистанции от жизни несколько поколебалась. Впрочем, Тонио с ранней юности влекло к «простым» сверстникам. Он добивался дружбы своего одноклассника Ганса, которого совершенно не интересовал плачущий король из «Дона Карлоса». Ну разве можно предпочесть Шиллера книгам о лошадях с первоклассными иллюстрациями? В шестнадцать лет он увлекается весёлой девушкой Инге, обожающей танцы. Её Тонио предпочитает серьёзной, задумчивой девушке, которую, в отличие от Инге, интересуют его стихи.
Можно предположить, что имеет место известное притяжение противоположностей. Тонио тянет к тем, кто не понимает и не может его понять, так как они говорят на разных языках. Сила обаяния «чужого» и непонятного в действии… Мы не знаем о том, какие темы освещает Тонио, став писателем. Возможно, именно такие личности с бюргерскими интересами вдохновляют его на сюжеты. Приходит на ум художник из пугающей новеллы Акутагавы «Муки ада», который утверждает, что не может изобразить то, чего он не видел, воочию или в своём воображении.У меня создалось впечатление, что автор верит в возможность компромисса, что «разум и чувства» могут сосуществовать и породить вневременные произведения. В конце концов, именно творческий процесс позволяет людям отрефлексировать своё прошлое, сублимировать свой опыт, в первую очередь негативный. Несчастья в личной судьбе могут быть переведены на вечный «язык» книг или картин. Да и сама граница между полнокровной жизнью и созерцательным подходом к бытию довольно размыта, согласитесь. К тому же человек, погружённый в себя, тоже живёт своей жизнью и способен остро чувствовать. Словом, это скорее единое нечёткое множество, а не две жёстко разграниченные плоскости. За корректность математической метафоры не поручусь, но смысл она передаёт.
Подспудное стремление примирить эти два мира, ни в одном из которых он не чувствует себя дома, мучает и волнует нашего героя. Тонио объясняет двойственность своей натуры сочетанием материнского и отцовского наследия, разницей темпераментов родителей. Отец его был склонен к созерцательности и печали, тогда как мать, «в жилах которой текла смешанная экзотическая кровь, была хороша собой, чувственна, наивна; беспечность в ней сочеталась со страстностью, с импульсивной распущенностью».После неожиданной встречи с миром юности, принявшего форму Инге и Ганса, на Тонио вновь нахлынули старые дилеммы и слегка позабытые эмоции. Поразмыслив, он приходит к выводу:
Ведь если, что может сделать из литератора поэта, то как раз моя бюргерская, обывательская любовь к человечному, живому, обыденному. Всё тепло, вся доброта, весь юмор идут от неё, и временами мне кажется, что это и есть та любовь, о которой в Писании сказано, что человек может говорить языком человеческим и ангельским, но без любви голос его всё равно останется гудящей медью и кимвалом бряцающим.924,2K Faery_Trickster11 марта 2015 г.В книге «Рассуждения аполитичного», законченной в 1918 году, Томас Манн вспоминает одного геттингенского студента, который после лекции писателя подошёл к нему и взволнованным голосом сказал: «Вы, надеюсь, знаете, не правда ли, Вы знаете это – не «Будденброки» выражают Вашу сущность, Ваша сущность – это «Тонио Крёгер»! И я сказал, что я знал это».Читать далее
Faery_Trickster11 марта 2015 г.В книге «Рассуждения аполитичного», законченной в 1918 году, Томас Манн вспоминает одного геттингенского студента, который после лекции писателя подошёл к нему и взволнованным голосом сказал: «Вы, надеюсь, знаете, не правда ли, Вы знаете это – не «Будденброки» выражают Вашу сущность, Ваша сущность – это «Тонио Крёгер»! И я сказал, что я знал это».Читать далееНет ничего мучительнее и прекраснее, чем писать рецензии на Томаса Манна. Каждым своим произведением он уводит вас за собой в своё одиночество, наполняя до отказа чувствами и мыслями, но отбирая единственное спасение – дар речи. Вы готовы говорить о нём, не умолкая, с горящими глазами и сердцем, но вместе с тем душевное косноязычие не способно будет облечь в слова правды и десятую долю того, что разрушает вас изнутри. Нет, автором книги, которую читал Дориан Грей, должен был быть не Гюисманс, а Томас Манн, только в его силу отравлять и спасать я верю с такой неоспоримой уверенностью.
Каждое его произведение написано не словами, но таинственной, всепоглощающей музыкой, в волнующих аккордах которой растворяется ваша душа, сливаясь с душой писателя, заставляя задыхаться в том одиночестве теней и мыслей, которые терзали его при жизни. В жестокости этого союза вы чувствуете всё слишком ярко, точно все эти эмоции вырваны из вашей собственной возвысившейся над миром души, но это только красивая ложь подсознания. Сказать, что ты чувствовал нечто подобное, кажется лицемерным хвастовством или добровольным самообманом, желанием дотянуться до этой вечной, болезненно прекрасной глубины чувств человека, осознающего своё призвание и величие.
Томас Манн – это разновидность опиума, к которому привыкаешь молниеносно и навсегда. Первый раз вы берёте в руки небольшую новеллу, не подозревая, насколько этот момент поворотный, а после, когда откладываете её прочь и осознаёте, что изнутри раздроблены на куски и собраны заново, уже слишком поздно, вы больше не принадлежите себе. Те бесконечно долгие минуты, часы, месяцы пока не прекратится влияние отравляющего сознание слова, вся литература превращается в нечто совершенно иное, потому что теперь весь книжный мир разделяется для вас на «Томаса Манна» и «остальные книги».
«Тонио Крёгер» — это особая новелла в творчестве писателя. В ней сама суть понимания жизни, любви, мировосприятия Томаса Манна. Я бы не советовал с неё начинать знакомство с автором, но каждый, кто уже пал жертвой его пера, просто не имеет права пройти мимо. Глубоко автобиографичная, наполненная болью и отчаянием одиночества, но прекрасная и завораживающая, как картина распятого Христа. Тяга к любви и людям, простым и искренним, умеющим смеяться и жить беззаботно, не зная мучений познания и интеллектуальной отчуждённости; преданность своему таланту и искусству – самому сладкому проклятию, доступному человеку; противоречие между возвышенной тяжестью душевных переживаний и желанием раствориться в беспечной обыденности. «Тонио Крёгер» — одно из тех произведений, которые не можешь просто закрыть и пойти заниматься своими делами, потому что дух автора здесь силён, как нигде, гораздо сильнее, чем окружающая действительность.
Есть тяжёлые произведение, после которых хочется прочесть что-то светлое и лёгкое, к примеру, после книг Фёдора Михайловича. И вы читаете лёгкое, и становится легче. Парадокс Томаса Манна в том, что его работы не всегда можно назвать тяжёлыми, но после них хочется того же – избавиться от угнетающей, подавляющей силы, которая превосходит ваше собственное «я». Но что бы вы ни пробовали, чтобы избавиться от этой тяжести на душе, ничто не поможет. Иллюзия лёгкости сохраняется ровно до тех пор пока вы не возвращаетесь в себя и не начинаете думать. Это похоже на изощрённое проклятье, но от Томаса Манна вам не спастись, от него не лечит ничто.
691,7K litera_T11 декабря 2023 г.
litera_T11 декабря 2023 г.Заблудший бюргер
Читать далееВзял новеллы Томаса Манна в руки - не жди простого чтения. Тебя ждут раздумья, анализ, глубокое погружение в сложную и очень тонкую литературу. Мне по вкусу такое изысканное блюдо, хоть его и нужно долго переваривать. Например, как эту новеллу, отзыв на которую писать весьма непросто... Это как писать диктант в музыкальной школе - тебе играют музыку на фортепиано, а ты на слух записываешь нотные знаки на бумаге. Музыка красивая, ты её прочувствовал, вкусил и даже понял, находишься в определённом состоянии после неё... А теперь, будь добр, разложи её на ингредиенты, состоящие из нотных знаков. Там ошибаться нельзя, иначе плохая оценка. Тут, к счастью, можно. Можно оставить свои мысли себе на память, даже если они и не совсем верны, чтобы позже, быть может, изменить мнение о прочитанном. Хотя, кто определяет правильность видения сути вещей, описанных в литературе...
Моё вступление несколько созвучно с мыслями главного героя новеллы Тонио. Он такой же неудавшийся полукровка, некий заблудший бюргер, рождённый от двух разных по природе и происхождению людей. Мать южанка с вывихнутыми мозгами (спасибо Паустовскому за это выражение) и отец немецкого происхождения со всеми вытекающими нордически - расчётливого характера успешного обывателя. Застрял их сын между двумя разными человеческими мирами. Да, я его понимаю и глубоко сочувствую. И обывателем быть не может, хоть и смотрит на них с восхищением и даже с завистью, а на некоторых вообще с любовью, отмечая про себя, как им комфортно и довольно живётся в этом мире. И писателем толковым никак не станет, потому что не хватает в природе его чего-то определённо свершившегося, чтобы перекинуло его на сторону оседлавших Пегаса, солидных творцов - литераторов. Настоящим бюргером, то есть обывателем в немецком толковании, не может никак стать наш Тонио, в сочетании имени и фамилии которого тоже заложена двойственность, потому что материнская кровь подпортила ему родословную. Что в итоге? Наблюдатель, праздный созерцатель жизни бесцельно отживающий свой век среди полутеней жизни. Потерявшийся, не состоявшийся и несчастливый даже для самого себя. Хотя, много ли счастливых в этом мире даже среди успешных - им ведь всегда мало... Я его понимаю и жалею, отчасти, как самоё себя. Но, увы и ах - застрявшим в промежуточных мирах сложно найти устойчивое место и внутри и снаружи.
Центральное место новеллы занимает его весьма любопытная лекция, которую он вещает своей знакомой художнице в некотором отчаянье. Это очень цепляющая философия о свойствах натур людей творческих, которая достаточно созвучна и с моими собственными мыслями, а кроме того она не лишена логики и некоторой истины. Перечитала её по меньшей мере раза три с желанием сделать некую выжимку для рецензии. Но это как раз тот случай, когда из песни слова не выкинешь, поэтому исключать ничего не захотелось. Выкладываю себе на память в первоисточнике этот монолог героя и, быть может, не без некоторой пользы для читателей лайвлиба, которые пожелают прочесть вот такую длинную цитату :
Что правда, то правда, весной работа не ладится. А почему? Потому что обострены все чувства. Ведь лишь простак полагает, что творец-художник вправе чувствовать. Настоящий и честный художник только посмеется над столь наивным заблуждением дилетанта – не без грусти, быть может, но посмеется. То, о чем мы говорим, отнюдь не главное, а безразличный сам но себе материал, и, лишь возвысившись над ним, бесстрастный художник возводит все это в степень искусства. Если то, что вы хотите сказать, затрагивает вас за живое, заставляет слишком горячо биться ваше сердце, вам обеспечен полный провал. Вы впадете в патетику, в сентиментальность, и из ваших рук выйдет нечто тяжеловесно-неуклюжее, нестройное, безыронически-пресное, банально-унылое; читателя это оставит равнодушным, в авторе же вызовет только разочарование и горечь... Так! И ничего тут не поделаешь, Лизавета! Чувство, теплое, сердечное чувство, всегда банально и бестолково. Артистичны только раздражения и холодные экстазы испорченной нервной системы художника, надо обладать какой-то нечеловеческой, античеловеческой природой, чтобы занять удаленную и безучастную к человеку позицию и суметь, или хотя бы только пожелать, выразить человеческое, обыграть его, действенно, со вкусом его воплотить. Владенье стилем, формой и средствами выражения – уже само по себе предпосылка такого рассудочного, изысканного отношения к человеческому, а ведь это, по сути, означает оскудение, обеднение человека. Здоровые, сильные чувства – это аксиома – безвкусны. Сделавшись чувствующим человеком, художник перестает существовать. Адальберт это понял, а потому и отправился в кафе, в «возвышенную сферу», – да, да, это так!
– Ну и бог с ним, батюшка, – сказала Лизавета, моя руки в жестяной лоханке, – вас ведь никто не просит следовать за ним.
– Нет, Лизавета, я не пойду за ним, но только потому, что весна порой еще заставляет меня стыдиться моего писательства. Мне, видите ли, случается получать письма, написанные незнакомым почерком, хвалу и благодарность читателей, восторженные отзывы взволнованных людей. Читая эти письма, я поневоле бываю растроган простыми чувствами, которые пробудило мое искусство; меня охватывает даже нечто вроде сострадания к наивному воодушевлению, которым дышат эти строки, и я краснею при мысли о том-, как был бы огорошен такой человек, заглянув за кулисы; как была бы уязвлена его наивная вера, пойми он, что честные, здоровые и добропорядочные люди вообще не пишут, не играют, не сочиняют музыки...
Впрочем, эта растроганность не мешает мне своекорыстно использовать его восхищение, стимулирующее и поощряющее мой талант, да еще строить при этом серьезную мину, точно обезьяна, разыгрывающая из себя сановитого господина... Ах, не спорьте со мной, Лизавета! Уверяю вас, порой я ощущаю смертельную усталость – постоянно утверждать человеческое, не имея в нем своей доли... Да и вообще, мужчина ли художник? Об этом надо спросить женщину. По-моему, мы в какой-то мере разделяем судьбу препарированных папских певцов... Поем невыразимо трогательно и прекрасно, а сами...
– Постыдились бы, Тонио Крёгер. Идите-ка лучше пить чай. Чайник уже закипает, и вот вам папиросы. Итак, вы остановились на мужском сопрано, можете продолжать с этого места. Но все-таки постыдитесь. Если бы я не знала, с какой гордой страстностью вы отдаетесь своему призванию...
– Не говорите мне о «призвании», Лизавета Ивановна! Литература не призвание, а проклятие, – запомните это. Когда ты начинаешь чувствовать его на себе? Рано, очень рано. В пору, когда еще нетрудно жить в согласии с богом и человеком, ты уже видишь на себе клеймо, ощущаешь свою загадочную несхожесть с другими, обычными, положительными людьми; пропасть, зияющая между тобой и окружающими, пропасть неверия, иронии, протеста, познания, бесчувствия становится все глубже и глубже; ты одинок – и ни в какое согласие с людьми прийти уже не можешь.
Страшная участь! Конечно, если твое сердце осталось еще достаточно живым и любвеобильным, чтобы понимать, как это страшно!.. Самолюбие непомерно разрастается, потому что ты один среди тысяч носишь это клеймо на челе и уверен, что все его видят. Я знавал одного высокоодаренного актера, которого, как только он сходил с подмостков, одолевала болезненная застенчивость и робость. Так действовало на гипертрофированное «я» этого большого художника и опустошенного человека отсутствие роли, сценической задачи... Настоящего художника – не такого, для которого искусство только профессия, а художника, отмеченного и проклятого своим даром, избранника и жертву, – вы всегда различите в толпе. Чувство отчужденности и неприкаянности, сознание, что он узнан и вызывает любопытство, царственность и в то же время смущение написаны на его лице. Нечто похожее, вероятно, читается на лице властелина, когда он проходит через толпу народа, одетый в партикулярное платье. Нет, Лизавета, тут не спасет никакая одежда. Наряжайтесь во что угодно, ведите себя как атташе или гвардейский лейтенант в отпуску – вам достаточно поднять глаза, сказать одно-единственное слово, и всякий поймет, что вы не человек, а нечто чужеродное, стороннее, иное...
Да и что, собственно, такое художник? Ни на один другой вопрос невежественное человечество не отвечает со столь унылым однообразием.
«Это особый дар», – смиренно говорят добрые люди, испытавшие на себе воздействие художника, а так как радостное и возвышающее воздействие, по их простодушному представлению, непременно должно иметь своим источником нечто столь же радостное и возвышенное, то никому и в голову не приходит, сколь сомнителен и проблематичен этот «особый дар».
Всем известно, что художники легко уязвимы, а уязвимость обьгчно несвойственна людям с чистой совестью и достаточно обоснованным чувством собственного достоинства... Поймите, Лизавета, что в глубине , души – с переносом в область духовного – я питаю к типу художника не меньше подозрений, чем любой из моих почтенных предков там, на севере, в нашем тесном старом городке питал бы к фокуснику или странствующему актеру, случись такому забрести к нему в дом. Слушайте дальше.
Я знаю одного банкира, седовласого дельца, одаренного талантом новеллиста. К этому своему дару он прибегает в часы досуга, и, должен вам сказать, некоторые его новеллы превосходны. И вот, вопреки – я сознательно говорю «вопреки» – этой возвышенной склонности, его репутация отнюдь не безупречна; более того, он довольно долго просидел в тюрьме, и отнюдь не беспричинно. Только отбывая наказание, этот человек осознал свой дар, и тюремные впечатления стали главным мотивом его Творчества. Отсюда недалеко и до смелого вывода: чтобы стать писателем, надо обжиться в каком-нибудь исправительном заведении. Но разве тут же не. начинаешь подозревать, что «тюремные треволнения» не столь изначально связаны с его творчеством, как те, что привели его в тюрьму. Банкир, пишущий новеллы, – это редкость, но добропорядочный, безупречный, солидный банкир, пишущий новеллы, – такого просто не бывает...
Вот вы смеетесь, а я ведь не шучу. Нет на свете более мучительной проблемы, чем проблема художественного творчества и его воздействия на человека. Возьмите, к примеру, удивительное творение наиболее типичного и потому наиболее действенного художника, возьмите его болезненное, в корне двусмысленное произведение, «Тристан и Изольда», и проследите воздействие этой вещи на молодого, здорового, нормально чувствую-щего человека. Вы увидите приподнятое состояние духа, прилив сил, искренний восторг, даже побуждение к собственному «художественному» творчеству... Милейший дилетант! У нас, художников, все обстоит по иному, так, как и не снилось ему с его «горячим сердцем» и «подлинным энтузиазмом». Я видел художников, окруженных восторженным поклонением женщин и юношей, а чего только я не знал о них... Во всем, что касается искусства, его возникновения, а также сопутствующих ему явлений и условий, приходится постоянно делать новые и удивительные открытия...
– И эти открытия вы делаете в других, Тонио Крёгер, простите меня, или не только в других?
Он молчал, нахмурив свои разлетные брови, и тихонько что-то насвистывал.
– Дайте сюда чашку, Тонио. У вас слабый чай. Вот папиросы, курите, пожалуйста. Вы сами отлично знаете, что не обязательно смотреть на вещи так, как смотрите вы...
– Ответ Горацио, милая Лизавета. «Это значило бы рассматривать вещи слишком пристально», не правда ли?
– Нет, я хочу сказать, что можно смотреть на них и по-другому, Тонио Крёгер. Я только глупая женщина, пишущая картины, и если у меня находится, что возразить вам, если мне иногда удается защитить от вас ваше собственное призвание, то, конечно, не потому, что я высказываю какие-то новые мысли, – нет, я лишь напоминаю вам то, что вы и сами отлично знаете... По-вашему, выходит, что целительное, освящающее воздействие литературы, преодоление страстей посредством познания и слова, литература как путь к всепониманию, к всепрощению и любви, что спасительная власть языка, дух писателя как высшее проявление человеческого духа вообще, литератор как совершенный человек, как святой – только фикция, что так смотреть на вещи – значит смотреть на них недостаточно пристально?
– Вы вправе все это говорить, Лизавета Ивановна, применительно к творениям ваших писателей, ибо достойная преклонения русская литература и есть та самая святая литература. Но я вовсе не упустил из виду ваших возможных возражений, напротив, они часть того, о чем я сегодня так неотвязно думаю... Посмотрите на меня. Вид у меня не слишком веселый, правда? Староватый, усталый, осунувшийся. Но так – возвращаясь к вопросу о «познании» – и должен выглядеть человек, от природы склонный верить в добро, мягкосердечный, благожелательный я немного сентиментальный, но которого вконец извели и измотали психологические прозрения. Преодолевать мировую скорбь, наблюдать, примечать, оправдывать даже самое странное – и сохранять бодрость духа, утешаясь сознанием своего морального превосходства над нелепой затеей, именуемой бытиём... да, конечно! Но ведь иногда, несмотря на радость выражения, человеку все же становится невмоготу. Все понять – значит все простить? Не уверен. Существует еще то, что я называю «познавательной брезгливостью», Лизавета: состояние, при котором человеку достаточно прозреть предмет, чтобы ощутить смертельное отвращение к нему (а отнюдь не примиренность). Это случай с датчанином Гамлетом, литератором до мозга костей. Он-то понимал, что значит быть призванным к познанию, не будучи для него рожденным. Провидеть сквозь слезный туман чувства, познавать, примечать, наблюдать – с усмешкой откладывать впрок плоды наблюдения даже в минуты, когда твои руки сплетаются с другими руками, губы ищут других губ, когда чувства помрачают твой взгляд, – это чудовищно, Лизавета, это подло, возмутительно... Но что толку возмущаться?
Другая, не менее привлекательная сторона всего этого – пресыщенность, равнодушие, безразличие, устало-ироническое отношение к любой истине; ведь не секрет, что именно в кругу умных, бывалых людей всегда царит молчаливая безнадежность. Все, что бы ни открылось вам, здесь объявляется уже устаревшим. Попробуйте высказать какую-нибудь истину, обладанье которой доставляет вам свежую, юношескую радость, и в ответ вы услышите только пренебрежительное пофыркивание... Ах, Лизавета, так устаешь от литературы!
Наш скептицизм, нашу угрюмую сдержанность люди часто принимают эа ограниченность, тогда как на самом деле мы только горды и малодушны.
Это о «познании». Что же касается «слова», то тут, возможно, все сводится не столько к преображению, сколько к замораживанию чувства, к хранению его на льду, и правда, ведь есть что-то нестерпимо холодное и возмутительно дерзкое в крутой и поверхностной расправе с чувством посредством литературного языка. Вели сердце у вас переполнено, если вы целиком во власти какого-нибудь сладостного или высокого волнения, – чего проще? – сходите к литератору, и в кратчайший срок все будет в порядке. Он проанализирует ваш случай, найдет для него соответствующую формулу, назовет по имени, изложит его, сделает красноречивым, раз навсегда с ним расправится, устроит так, что вы станете к нему равнодушным, и даже благодарности не спросит. А вы пойдете домой остуженный, облегченный, успокоенный, дивясь, что, собственно, во всем этом могло каких-нибудь несколько часов назад повергнуть вас в столь сладостное волнение. И вы намерены всерьез заступаться за этого холодного, суетного шарлатана ? Что выговорено, гласит его символ веры, с тем покончено. Если выговорен весь мир, – значит, он исчерпан, преображен, его более не существует... Отлично! Но я-то ие нигилист...
– Вы не... – начала Лизавета; она только что поднесла ко рту ложечку чая, да так и замерла в этом положении.
– Конечно, нет... Да очнитесь же, Лизавета? Повторяю, я не нигилист там, где дело идет о живом чувстве. Литератор в глубине души не понимает, что жизнь может продолжаться, что ей не стыдно идти своим чередом и после того, как она «выговорена», «исчерпана». Несмотря на свое преображение (через литературу), она знай себе грешит по-старому, ибо е точки зрения духа всякое действие – грех...
Сейчас я доберусь до цели, Лизавета. Слушайте дальше. Я люблю жизнь, – это признание. Примите, сберегите его, – никому до вас я ничего подобного не говорил. Про меня немало судачили, даже в газетах писали, что я то ли ненавижу жизнь, то ли боюсь и презираю ее, то ли-с отвращением от нее отворачиваюсь. Я с удовольствием это выслушивал, мне это льстило, но правдивее от этого такие домыслы; не становились. Я люблю жизнь... Вы усмехаетесь, Лизавета, и я знаю почему. Но, заклинаю вас, не считайте того, что я сейчас скажу, за литературу! Не напоминайте мае в Цезаре Борджиа или а какой-нибудь хмельной философии, поднимающей его на щит! Что он мне, этот Цезарь Борджиа, я о нем и думать не хочу и никогда не пойму, как можно возводить в идеал нечто исключительное, демоническое. Нет, нам, необычным людям, жизнь представляется не необычностью, не призраком кровавого величия и дикой красоты, а известной противоположностью искусству и духу: нормальное, добропорядочное, милое – жизнь во всей ее соблазнительной банальности – вот царство, по которому мы тоскуем. Поверьте, дорогая, тот не художник, кто только и мечтает, только и жаждет рафинированного, эксцентрического, демонического, кто не знает тоски по наивному, простодушному, живому, по малой толике дружбы, преданности, доверчивости, по человеческому счастью, тайной и жгучей тоски, Лизавета, по блаженству обыденности!
Друг! Верьте, я был бы горд и счастлив, найдись у меня друг среди людей. Но до сих пор друзья у меня были лишь среди демонов, кобольдов, завзятых колдунов и призраков, глухих к голосу жизни, – иными словами, среди литераторов.
Мне случается стоять на эстраде под взглядами сидящих в зале людей, которые пришли послушать меня. И вот, понимаете, я ловлю себя на том, что исподтишка разглядываю аудиторию, так как меня гвоздит вопрос, кто же это пришел сюда, чье это одобрение и чья благодарность устремляются ко мне, с кем пребываю я сегодня в идеальном единении благодаря моему искусству... И я не нахожу того, кого ищу, Лизавета. Я нахожу лишь знакомую мне паству, замкнутую общину, нечто вроде собрания первых христиан: людей с неловким телом и нежной душой, людей, которые, так сказать, вечно падают – вы понимаете меня, Лизавета? – и для которых поэзия – это возможность хоть немного да насолить жизни, – словом, нахожу только страдальцев, бедняков, тоскующих. А тех, других, голубоглазых, которые не знают нужды в духовном, не нахожу никогда...
Ну, а если бы все обстояло иначе? Радоваться этому было бы по меньшей мере непоследовательно. Нелепо любить жизнь и вместе с тем исхищряться в попытках перетянуть ее на свою сторону, привить ей вкус к меланхолическим тонкостям нездорового литературного аристократизма.
Царство искусства на земле расширяется, а царство здоровья и простодушия становится все меньше. Надо было бы тщательно оберегать то, что еще осталось от него, а не стараться обольщать поэзией людей, которым всего интереснее книги о лошадях, иллюстрированные моментальными фотографиями.
Ну можно ли себе представить что-нибудь более жалкое, чем жизнь, пробующая свои силы в искусстве? Мы, люди искусства, никого не презираем больше, чем дилетанта, смертного, который верит, что при случае он, помимо всего прочего, может стать еще и художником. Мне самому не раз приходилось испытывать это чувство.
Я нахожусь в гостях в добропорядочном доме: все едят, пьют, болтают, все дружелюбно настроены, и я счастлив и благодарен, что мне удалось, как равному среди равных, раствориться в толпе этих обыкновенных правильных людей. И вдруг (я не раз бывал тому свидетелем) поднимается с места какой-нибудь офицер, лейтенант, красивый малый с отличной выправкой, которого я никогда не заподозрил бы в поступке, пятнающем честь мундира, и самым недвусмысленным образом просит разрешить ему прочитать стихи собственного изготовления. Ему разрешают, не без ему щенной улыбки. Он вытаскивает из кармана заветный листок бумаги и читает свое творенье, славящее музыку и любовь, – одним словом, нечто столь же глубоко прочувствованное, сколь и бесполезное. Ну, скажите на милость! Лейтенант! Властелин мира! Ей-богу же, это ему не к лицу! Дальше все идет, как и следовало ожидать: вытянутые физиономии, молчанье, знаки учтивого одобрения и полнейшее уныние среди слушателей. И вот первое душевное движение, в котором я отдаю себе отчет: я – совиновник замешательства, вызванного опрометчивым молодым человеком. И действительно, на меня, именно на меня, чье ремесло он испоганил, обращены насмешливые, холодные взгляды. И второе: человек, которого я только что искренне уважал, начинает падать в моих глазах, падать все ниже и ниже...
Меня охватывает благожелательное сострадание. Вместе с несколькими другими снисходительными свидетелями его позора я подхожу к нему и говорю: «Примите мои поздравления, господин лейтенант! У вас премилое дарованье! Право же, это было прелестно!» Еще мгновенье, и я кажется, похлопаю его по плечу. Но разве сострадание – то чувство, которое должен вызывать юный лейтенант?.. Впрочем, сам виноват.
Пускай теперь стоит как в воду опущенный и кается в том, что полагал, будто с лаврового деревца искусства можно сорвать хоть единый листок, не заплатив за него жизнью. Нет, уж я предпочитаю другого своего коллегу – банкира-уголовника. А кстати, Лизавета, вам не кажется, что я сегодня одержим гамлетовской.словоохотливостью?
– Вы кончили, Токио Крёгер?
– Нет, но больше я ничего не скажу.
– Да и хватит с вас. Угодно вам выслушать мой ответ?
– А у вас есть что ответить?
– Пожалуй: Я внимательно слушала вас, Тонио, от начала до конца, и мой ответ будет относиться ко всему, что вы сегодня сказали, и кстати явится разрешением проблемы, которая вас так беспокоит. А разрешение это состоит в том, что вы, вот такой, какой вы сидите здесь передо мною, обыкновеннейший бюргер.
– Неужто? – удивился он и весь как-то сник...
– Вас это, видимо, больно задело, да и не могло не задеть. А потому я слегка смягчу свой приговор, на это я имею право. Вы бюргер на ложном пути, Тонио Крёгер! Заблудший бюргер...
Молчание. Он решительно поднялся, взял шляпу и трость.
– Спасибо, Лизавета Ивановна. Теперь я могу спокойно отправиться домой. Вы меня доконали.
Приговор, вынесенный Тонио его коллегой по творчеству, оглашён и обжаловать его может лишь сама природа, а она беспощадна и капризна, когда создаёт подобных полукровок, вынужденных хрупко балансировать в жизненном пространстве. Созерцание, наблюдение и попытки отображения всего этого без обещания быть востребованным - вот их удел. Хотя, быть может, в этом и есть счастье? Такое неторопливое, философское, несколько бесцельное, как у одного, недавно описанного мною в рецензии на рассказ Моэма, героя, который решил остаться на Таити. А кто сказал, что у человека должна быть какая-то иная цель, кроме счастья? А счастье у каждого своё...
P.S. Ну вот один вопрос, который мучает меня всю жизнь, и он обращён в сторону успешных обывателей - Зачем им книги и фильмы, если они в них всё равно ничего не понимают и не улавливают все тонкости, которые пытаются донести те, кто находятся по другую сторону этого мира? Или, быть может, тот писатель настоящий, который сумел таки донести до них, талантливо протянув невидимую нить, которая хоть на время соединяет противоположные миры, сохраняя баланс мироздания, создавая гармонию между душой и телом?
48985 laonov25 июля 2025 г.
laonov25 июля 2025 г.Смуглый ангел (рецензия 愛してる )
Читать далееТомас Манн меня смутил. Сильно. И даже.. чуточку соблазнил. В хорошем смысле. Ай.. во всех смыслах!
У меня сложные отношения с Манном. Такие отношения порой бывают.. если встречаешься с бывшей возлюбленной. Кажется, что падаешь в ночные небеса. А это просто ты упал ночью с её постели… на пол. Разумеется, не во время секса, а когда вы уже мирно спали: у меня есть странная привычка, с детства: падать с кровати. Падать в любовь и.. в небо.С одной стороны, вполне себе прелестна эта немецкая чёрточка (не падать с кровати, разумеется, это чисто русское) — тотально выверенная симметрия композиции и символизма.
По сути, Манн составляет композицию произведения, по законам музыкальной сонаты. Если не попасть в настрой, то может слегка утомить.
Да, даже прелестная Лунная соната или Танец снежинок Дебюсси, может утомить и даже.. испугать, если не попадёт в настрой. Например.. если вы будете спать и любимая, в 5 часов утра, сыграет вам Дебюсси на рояле. Как тут не упасть с кровати?
Вместе с кошкой и упали бы..С другой стороны, в этой немецкой симметрии есть своё очарование: она похожа на чистенькие немецкие улочки, до того чистые, что аж становится жутко. Кажется: что-то должно случиться. Со мной: так маньяк начищает нож. Так ангелы вычищают улочку и судьбу.. — до блеска.
Но потом ты привыкаешь.
Манн написал прелестную новеллу об экзистенциальном взаимоотношении творчества и любви.Я бы сказал, что это любовный треугольник, состоящий из муки любви, муки творчества и.. муки воспоминаний, и это всё так сладостно и мучительно переплетается, что ты толком не знаешь, где кончается одно и где начинается другое: так порой перележишь ночью руку свою, проснёшься.. и в ужасе трогаешь её, и не чувствуешь, и даже слегка вскрикиваешь, ибо.. ты лежишь в постели один, но в темноте тебе кажется, что твой любимый человек — волшебным образом оказался в твоём городе и не менее чудесным образом, без ключей, открыл дверь и лёг к тебе в постель, забыв о ссоре, словно самый нежный в мире лунатик.
И вот, я робко и нежно целую руку смуглого ангела.. и вдруг замечаю, что мой кот Барсик, как-то странно смотрит на меня, словно на идиота. И я вдруг понимаю, отходя от наваждения, что я целую — свою собственную руку.
Ну как тут не вскрикнуть и не заплакать и не.. упасть с постели? А? Смуглый ангел?
Ты мне сегодня снилась. Странный сон. Томас Манн нёс тебя на руках, и, то улыбался, то плакал, а я шёл за ним и спрашивал его: ну можно я понесу, Томас? Уже моя очередь и мне скоро уже просыпаться.Я оглянулся и вскрикнул: за нами шли - Достоевский, Пушкин, Экзюпери, Бельмондо..
И все они хотели тебя нести на руках и все говорили, спорили, что сейчас — их очередь!
А ты, милая, на груди Томаса, тянула руки ко мне, ты была очаровательной японочкой.. у которой были твои неземные глаза.
Ну как тут не упасть с постели? Как?? С Томасом Манном и упали. С томиком Томаса Манна, разумеется.Когда я начинал читать новеллу, я два раза посмотрел на часы. Так порой бывает на первом свидании. Или у психотерапевта. И там и там это означает: ка-та-стро-фа. Поскорей бы это закончилось. Хочется убежать.
Читал бы в постели эту новеллу, то можно было бы.. ради развлечения, упасть с кровати, на пол.
Ах, вот бы так можно было на первом свидании или у психотерапевта…
Томас Манн, описывая 14-летнего героя своего, и словно бы расписывая «перо», стелет перед читателем милую томас-манновщину, свои тайные и сакральные муки и наваждения бисексуальности: юный Тонио влюблён в своего белокурого друга (Мэри Сью в мальчиковом обличье) — Ганса.Впрочем, описано это романтически и воздушно, почти бестелесно. Но было и в этой восторженной, почти шиллеровской любви и в атмосфере школьных прогулок, что-то такое до боли знакомое, душненькое.. что мне захотелось развлечь себя, или Томаса Манна, или — своего кота Барсика и — упасть с дивана. С томиком Манна.
Что я и сделал. Довольно болезненно упал, к слову. Зато Барсику понравилось, да и читать стало интересней. А может Манн стал писать интересней, и на смену душненькой Мэри-Сью-Гансу, пришли очаровательные Магдалина и Инге, и танцы! Чудесное описание танцев!И тут ты вспоминаешь, как обожал Манн русскую литературу, и доверяешься Манну, прикрыв глаза и блаженно улыбаясь и шепча вслух: о мой смуглый ангел.. как я тебя люблю!
И как по волшебству, в новелле появляется — смуглый ангел. Разве это не чудо?
Правда, это мама нашего героя. Тонио.
В крови Тонио сошлись два начала: северное, разумное, — отцовское, и иррациональное, материнское: отец привёз жену откуда-то из-за океана.
Вспоминается любимый мной стих из Фауста Гёте:
Но две души живут во мне,
И обе — не в ладах друг с другом:
Одна, как страсть земли легка,
Другая… вся за облака
Так и рванулась бы из тела..Рванулась и смугленькая мама Тонио, когда умер её муж, отец Тонио: уехала за голубые дали, с музыкантом: видимо, ей было тесно душой и судьбой в северной стране, пусть уютной и сытой.
И душа Тонио, рвётся, как и его мать, куда-то в запредельное, но.. сердце его словно бы жаждет простого земного счастья.
Всякому блюду — своё приготовление.Если искать в новелле привычной для многих романтичности, развития история любви.. то читатель может быть разочарован.
Да, романтизм есть, и шикарный, но по сути, это гамлетовский монолог с музой, или байронический: вопрос — быть или не быть, поднято, точнее — развито, на иной, горней высоте: любить или жить? Творить — или любить?В новелле Манна, творчество и любовь, сами их судьбы, разделены, как Ромео и Джульетта, как душа и тело.
Наверное, это божье чудо, если тропинки этих понятий пересекаются.
Все мы слышали о том, что — не дай бог влюбиться в поэта или в учёного.
На первом месте у них всегда будет — муза. А потом — вы. И чем больший это талант, тем более «развратные» отношения у поэта или учёного будут.. с музой, а не с вами.Иногда всё это будет срываться в мучительно-сладкий любовный треугольник.. пока кто-нибудь не застрелится, в постели, пока двое других — мирно спят рядышком.
Не все из нас — жёны Толстого или Достоевского. Это в некоторой мере высшая и нирваническая степень садо-мазохизма, смешанная с христианским подвижничеством крайней степени, за которую не дают «святость», почему то.
По крайней мере на земле.Наверное, в большинстве случаев это так и есть: про поэтов и учёных. Но всегда есть исключения.
Закрыл томик Манна и свои глаза и размечтался и прошептал вслух: Томас, милый, сделай так, что бы в новелле появился смуглый ангел, ещё раз. Мне было мало мамы Тонио.. (звучит странно, двусмысленно даже, но что сказал, то сказал..).
В этот миг, я чуточку вздрогнул, ибо о мои ноги кто-то потёрся.Я даже не сразу понял, что это — Барсик. Мало ли.. вдруг души умерших именно вот так и приходят к нам, неожиданно?
Но что бы Томас Манн тёрся и, притом, ласково, о мои ноги… это перебор. Да и стыдно, чего уж там. Слава богу, это был дурашка Барсик, видимо по ласковому тону к Манну, спутав что то и подумав, что я хочу его покормить.И что же вы думаете? Манн — волшебник!!
Или я и Барсик, волшебники..
В общем, читаю новеллу дальше и вижу.. смуглого ангела! Моего милого московского ангела, с каштановыми волосами и глазами чайного цвета, в лиловом платьице, как у японочки!
И этот ангел — русская женщина! Не чудо ли?Это русская художница Лизавета Ивановна, с которой наш Тонио беседует столь же задушевно, как .. Иван Карамазов — с Чёртом.
А если серьёзно, то русская художница олицетворяет собой — русскую литературу, которую именно в этом рассказе, Манн назвал — святой.
Фактически, мы видим исповедь немецкого писателя, а если быть точнее — европейской, мечущейся и демонической культуры (в высоком смысле) — русской литературе.Исповедь — изумительная, к слову.
Манн сравнивает образ поэта (писателя, художника.. не важно), с апостолом, на которого сошёл дух святой и он заговорил на ангельских языках, но.. одновременно, этот образ мучительно смешан словно бы.. с Каином, демоническим началом, бунтарём.
Порой кажется, что Тонио говорит русской женщине о поэтах и писателях, как о — вампирах, которые сторонятся света, весны чувств..Да да, вы не ослышались. Тонио развивает странную космогонию творчества: что бы творить настоящее искусство — нужно умереть.
Спрашивается: для кого? Для себя? Для мира? Или что то в себе нужно убить? Отречься от счастья, свободы, надежд, друзей… бога и даже загробного счастья?
И ещё: нужно возвыситься над Словом, которое ты породил, и уже возвести его в высшую степень искусства.Т.е. Тонио проповедует, словно бы религию искусства, религию «избранничества».
Что бы творить по настоящему, нужно словно бы удалиться от жизни и трепетных чувств, они — словно белый шум радиопомех, лишь мешают настроиться на ту самую волну — Неба.
Словно душа настоящего поэта должна уйти в Гималаи чистого духа.И вот тут становится интересно: уйти насовсем?
Тонио рассказывает смуглому ангелу, с удивительными глазами, чуточку разного цвета, цвета крыла ласточки, о своей встрече сегодняшней с одним писателем.
Он боялся весны, как вампир — света. Мысли о любви и юбочках женщин, их милые смуглые ножки (ну, это я уже от себя добавил, вспомнив тебя, мой ангел..), отвлекали его от.. его основной любовницы — музы, и потому он шёл в тёмное кафе, словно в катакомбы развратные, где бы его и музу — не отвлекали.Спрашивается. Это настоящий писатель? вот этот фактически — вурдалак, который пожертвует и любимым человеком и сердцем своим и любовью и родиной и честью и богом и бессмертием души — для музы своей?
Такие и через друзей переступят, лишь бы написать что-то чудное, или опишут друзей и любимую - так, что потом они перестанут быть друзьями и любимыми.
Это уже не совсем писатель. Это что-то среднее, между древнегреческой проституткой, Фаустом, который продал кому то душу, и сам не знает кому, и… Пегасом.
Вполне себе дивное, готическое существо.Я к тому, что в писателе порой смешано множество существ и сущностей, и в рецензии не поговоришь о всех и не будешь взвешивать, каких сущностей — больше, и какая буква третья, в слове сущностей: ч, или щ?
Порой Есенин творил такое с женщинами и не только, что если бы тоже самое творил условный менеджер Валера, то ему следовало бы дать в лоб.
Помните известное письмо Пушкина к Вяземскому? Когда опубликовали дневники Байрона, толпа возликовала: Байрон такой же как мы! Он так же чёрен и мерзок!
И Пушкин писал: нет, врёте, подлецы, не так как вы — иначе.С одной стороны тут можно свернуть на опасную дорожку противопоставления людей — гениям. Мол, им всё можно.
Это опасный и ложный путь. Я верю, что в каждом человеке таится (но чаще — спит), ангел. Часто, гений, в любви может быть простым неучем и пошляком даже, а обычная школьница или простая продавщица на рынке — может быть гением любви, но поскольку любовь не всегда можно записать в слове, то её гений, равный Боттичелли, останется безвестным.Замечали, что иные классические стихи, композиции, картины и т.д., до того классические и гармоничные… что совсем оторвались от души человеческой и похожи на спутник Вояджер, который давно уже покинул солнечную систему и летит в ледяной и тёмной пустоте и общается словно с холодными звёздами, но не с людьми: ледяным безмолвием веет от многих классических вещей и.. некоторых религиозных истин: они словно не с людьми уже общаются, это уже что то молекулярное, солипсическое, в своей гармонии.
Милый русский ангел, сразу же раскусил тёмные плутания Тонио, назвав его томления — обывательскими.
В том смысле — что они словно бы оторвались от «человеческого», противопоставив искусство — любви и жизни: этот же солипсический грех совершила когда то и религия, противопоставив тело, — душе, которые суть — одна душа.
И вся мука души и тела, любовных отношений, от этой древней ошибки.Женщина, как всегда — права. Устами женщины говорит бог.
Тонио, фактически исповедуется — перед богом, хотя и не понимает этого.
Тонио не просто так мечтал о почти толстовском опрощении, мечтал стать таким же простым, как его друг Ганс, или любить такую не обременённую умом простушку, как — Инге.
Но зато это дивный образ Адама и Евы в Эдеме. Да, они быть может не очень умны, они могут прожить жизнь и так и не узнать о мирах Достоевского, Рахманинова, Бергмана, их интересы могут быть сужены, как зрачок перепуганной птички, до интересов модных журналов, разговоров о рыбном улове или танцах вечерних..
Но зато они — живые. Они счастливы.Как говорил Байрон: змей в Эдеме, кто угодно, но не лжец. Он сказал правду Еве: вы будете как боги..
Может, змий утаил, что у богов есть мрачная тайна, и они — страдают от бремени тайны жизни и истин?
Может знание истины — и есть главный грех перед жизнью?
Любовь выше истины. Вот в чём тайна жизни..Вот и Тонио. Проник в суть вещей.. и всё теперь кажется ему или смешным, или убогим.
Вопрос перспективы. Весь секрет наверно в нём: бабочка — прекрасна. Но если рассмотреть её в микроскоп — это монстр, какой не снился и Лавкравту.
Если войти в жизнь Ганса и Инге — это просто жизнь, шелест листвы Древа Жизни на ветру.
Если чуть отдалиться от них, как от тела удаляется душа, после смерти, возносясь, (а именно на это искушает ад творчества), то мы сразу увидим весь ужас такой жизни, и Толстой ужасался этой жизни без высоких нравственных идеалов.Но если ещё удалиться чуть дальше, за орбиты искусства и человеческого, то мы увидим просто свет жизни, или пение птиц в листве Древа жизни. Так что кажется — дерево поёт.
Я не так уж и шутил, когда оговорился про Чёрта и Ивана. Чёрт мечтал по сути о том же, о чём и Тонио, просто в разной тональности: Чёрт мечтал отойти от бесовских дел и томлений и воплотиться в теле семипудовой купчихи.А вот другой случай, который приводит русскому ангелу, Тонио.
На одном вечере, встал робкий офицер и сказал: я тут.. написал стих. Можно прочитаю?
Для Тонио, отмеченного каиновым знаком судьбы — поэта, это был ад. Надругательство над творчеством.
Всё равно что человек с улицы пришёл бы в храм и сказал бы: а можно, батюшка, я прочитаю проповедь пастве вашей или молебен отслужу?
Люди на вечере слушали и скучали.. и улыбались вежливыми улыбками.С одной стороны, тут словно бы деление людей на избранных и нет.
Этот всё то же ложное заблуждение, вызванное оторванностью от жизни, в сибирских Гималаях творчества, где цветут цветы для муз, но вянет душа и чуткость.
С одной стороны, можно понять стыд Тонио за того офицера со стишками.
Если вас ранило на войне и вы потом в мирное время встречаете чудака, скажем так, который говорит: а, вас тоже ранило? Мне вот тоже досталось… овод укусил. Я вас понимаю. Мы с вами на одной волне..
Тут будет именно реакция Тонио: смесь стыда, брезгливости и лёгкого ужаса.Наверно это проблема тесноты нашего, человеческого языка, что мы всё смешиваем.
Между писателем, например — Платоновым, и современным модным писателем, пишущем чудесные вещи, модные, стильные, вкусненькие… может быть такая же разница, как между Звездой в созвездии Ориона, и светом светофора в отдалении ночного города.
Это совсем разные категории. В этом смысле я Тонио понимаю. Есть писатели, которые по сути торгуют милыми вещами фантазии и чувств, как на восточном базаре, с пёстрыми и дивными вывесками.
Но мы же не будем называть милого продавца Абдуллу — поэтом?Настоящий поэт, может за ночь поседеть над листком, может прожить за год, несколько жизней и остаться инвалидом судьбы.
Когда Бальзак, в своём чудесном романе "Воспоминания двух юных жён", описывал роды женщины, он после этого так заболел, что неделю не мог встать с постели: он буквально перевоплотился в женщину.
Поэт Джон Китс, смертельно заболел, когда над его поэмой Эндимион, глумилась толпа: глумилась над Словом, которое берёт начало — в Слове бога, которое было в начале мира.
Не думаю, что для большинства современных писателей или поэтов, есть родственная связь с тем самым Словом.
Так.. слова, слова, слова. Как в Гамлете.Но неужели Тони против того, что бы простой человек тянулся к музе, свету, трепету творческого чуда?
Не случайно Манн сделал смуглого ангела, русскую женщину — художницей. Она стоит с кисточкой возле мольберта выслушивает исповедь Тонио.
Она знает, что не будет вторым Рафаэлем. Она словно бы поняла про искусство главную тайну: главное творчество — не в бумагомарании и в художестве, не в игре на публику и т.д.Основное творчество — это любовь. Наверное, человек может поднатужиться в Гималаях творчества, перепугав снежного человека, и создать музыку, более совершенную, чем пение воробушка или синички.
Но только кретин, павший с высот жизни, души, как ангел — с неба, может хвастаться, что у него получилось лучше, чем у синички.
Это как сравнивать красное и.. вон то дерево. Это разные вещи.
И офицерик тот по своему прав. Он же не называл себя — поэтом.Есть люди, с судьбой поэта и душой поэта, но которые не пишут стихов даже, или пишут стихи чеширские, или картины рисуют, забавные, невесомые почти, как игра ребёнка, но в них больше от поэтов, чем у многих поэтов в сюртуках и с книгами своих стихов.
Правда, мой смуглый ангел? Ты хоть и не пишешь стихов, но ты настоящий поэт, гораздо больший, чем многие «поэты».
Мне безумно понравилось, как в конце новеллы, Тонио, как и полагается, повзрослел в муке любви — сразу на десятки лет, словно Любовь, это таинственная планета, время на которой течёт иначе, и кто высаживается на неё, может за ночь постареть на 20 лет, а за год — на 200.В конце новеллы, Тонио пишет смуглому ангелу письмо. Фактически, письмо падшего ангела — Богу. Возвращение блудного сына.. не к богу-Отцу, но — к женщине.
Он называет её, милую художницу, пишущую для развлечения, для себя — вы, художники.
Он уже противопоставляет себя — поэтам и художникам.
Словно Толстой, покинувший Ясную поляну в ночи, он покинул ночной Сад своего творчества, ступив в иные сферы творчества, которые, быть может, человечеству только ещё предстоит открыть.И всё же, выделить я хочу другой момент, поразивший меня до мурашек на сердце и до жарких слёз в горле.
Помните я рассказывал, как совсем ещё юный Тонио, был влюблён в Инге, белокурую красавицу, не обременённую умом?
Пока Тонио смотрел на Инге, на него, со стороны.. словно ангел с грустных небес, смотрела — Магдалина.
Смуглая девочка, которая не умела так танцевать, как Инге, которая падала в танце и над ней смеялись (чудесный символ творчества, правда? Часто, большинство видят лишь плоть творчества, отточенность формы, похожую на муштровку в армии и школах, но не видят душу творчества и поэзию:Если бы Магдалина писала стихи или рисовала картины, они могли быть с милыми, почти детскими ошибками и «падениями» и псевдоинтеллектуалы и толпа, равно бы смеялись над ней.. не видя, как в её детском творчестве и падениях, сквозится нездешнее, смуглое небо).
Может это и была та самая Душа жизни, которая и примирила бы творчество и любовь?
Магдалина всем сердцем любила Тонио и у него с ней была словно одна душа..
Но почему такие как Тонио, любят глуповатых Ев, а не печальных Лилит?
Эта мука выбора такая же абсурдная, как между творчеством и любовью.И когда спустя много лет, уже известным поэтом, Тонио приехал в родные края, и там, в кафешку, (помните символ кафе, куда, словно в пещеру вампира, спешил один писатель-вурдалак?) словно бы проникает божественный свет: танцы.
Так травка пробивается сквозь ночь асфальта. Так в ночи приходит письмо от любимого человека, когда вы в ссоре..
Тонио стоит в тени, чтобы его не видели, словно в сумерках жизни, в лимбе — поэта, и смотрит на взрослую и прекрасную белокурую Инге, танцующую с её милым Гансом..А в это время.. из тёмного уголка кафе, на Тонио, грустно склонив каштановую головку, смотрит смуглый ангел: та самая Магдалина, тоже, повзрослевшая, и пронёсшая, видимо, любовь к Тонио, через всю жизнь: а не это ли настоящее творчество?
Тонио смотрит на Инге, Инге — на своего милого Ганса, Магдалина смотрит с разбитым сердцем — на Тонио.
А я смотрю на смуглого ангела — Магдалину и слёзы закипают у меня в горле и бабочки вновь рвутся из запястий и груди..
Знаю, мой смуглый ангел, ты не прочтёшь эту рецензию, но, надеюсь, хотя бы одна бабочка долетит до тебя. Хотя бы грустной улыбкой на твоих милых устах.30859 karelskyA5 января 2016 г."Хочу заснуть, а ты иди плясать..."Читать далее
karelskyA5 января 2016 г."Хочу заснуть, а ты иди плясать..."Читать далееОсобенная новелла о двух кастах людей на земле. Первую можно описать - "Пришел, увидел, победил", вторую - "Пришел, увидел, подумал". Первые просто живут, вторые думают о жизни. Первые прагматики, вторые мечтатели. Первые: хочу - беру, вторые: хочу - можно? Первых большинство, вторых меньшинство. Первые живут в раю, вторые в "утраченном" раю. У первых горе - от глупости, у вторых - от ума. Перетянуть человека из первой касты во вторую - изредка можно, вот с помощью такой новеллы, обратно - нет. Первые пишут глубоко прочувствованные, купеческие стихи, вторые - стихи. Язык у них разный. Только редкие гении сочетают в себе два мира, говорящие на языке, понятным всюду. Например, Пушкин. Герой новеллы стремился к невозможному.
Что же, вот и познакомился с Томасом Манном (28-лет в 1903). Впечатление хрустальной свежести - и по слогу и по мыслям. Филигранно изображены внешний мир погоды, северного немецкого города, Балтийского моря, внутренний мир героя, в котором угадывается автор. Необычное произведение. Вызвало удивление. Надо будет к нему возвращаться. Вспомнилось стихотворение Саши Черного "Каменщики", созвучное новелле.
281,6K noctu11 октября 2015 г.Читать далее
noctu11 октября 2015 г.Читать далееЦикл Томаса Манна о писателях (1/4)
Давным давно на голову мне в виде подарка свалилась простая серенькая книжка с надписью "Томас Манн. Новеллы". И от попытки прочитать "Тонио Крёгера" судорожно сводило челюсти со скуки. Пару страниц осилила и бросила. Прошло 5 лет. За плечами "Волшебная гора", из-за угла поглядывают "Будденброки" и "Доктор Фаустус", вся немецкая литература приветственно машет со стороны. "Мы снова встретились с тобой, но как мы оба изменились...". Теперь Тонио - не просто скучный мальчик, страдающий от излишней созерцательности (дальше в первый раз не прочла). Теперь он - писатель, мучающийся жизненными вопросами и пытающийся разрешить в рамках этого короткого произведения вопрос, так мучивший самого Манна, а значит и всех его героев. Это противопоставление жизни и творческих людей, оторванных от нее, но болезненно к ней стремящихся.
Родившись в маленьком городе с узкими улицами, во все проникающим духом бюргерства, будучи членом достопочтенного семейства, маленький Тонио - этот хрупкий и всеми непонятый мальчуган с выбивающимся из толп Гансов именем - остро чувствует собственное отторжение от мира материи, от всех этих танцев и ипподромов. Но он, чистый дух, два раза влюбляется в олицетворения самой Жизни, не принимающие его, не зовущие с собою в круг. Маленький Ганс в матросской шапочке и веселая Ингрид.
И вот он уже взрослый. Ширится одиночество, еще болезненней проявляется созерцательность и противостояние жизни. Встреча с прошлой жизнью не приносит облегчения, не разрешает накопившиеся внутренние проблемы. Это лишь новый повод для интеллектуальных исканий, повод ощутить себя не таким, как все.
Что мне очень нравится в Манне, так прозрачность собственных (манновских) исканий в героях. За их счет он, манипулируя их судьбами, обдумывает вопросы, мучающие его самого. Подобное явно проявляется у Толстого, которого Манн очень любил, как и всю русскую литературу.
Все же, "Тонио Крёгер" - это что-то очень личное и прочувствованное, окунающее с головой в саму душу писателя.
211K pele-pele21 августа 2012 г.Читать далее
pele-pele21 августа 2012 г.Читать далеена записи, сделанной в 1955 году, можно услышать к тому времени уже почти умершего томаса манна. он читает вслух новеллу о тонио крёгере. таким образом, 66 страниц текста превратились в 211 минут текста. некоторые из этих 211 минут приходилось переслушивать: язык тогда ещё живого классика настолько красив, что определённые пассажи очень хочется переслушать, чтобы понять, о чём, всё же, там говорится.
тонио крёгер – известный писатель, написавший «будденброков» и «волшебную гору». создание этих романов в новелле умалчивается по вполне понятным причинам. во-первых, новелла слишком быстро превратилась бы в ещё один роман, во-вторых, «волшебная гора» тогда ещё не была создана. вместо этого, тонио крёгер рассказывает о своих сердечных друзьях, которые, по всей видимости, в реальности не существовали, и которых придумал томас манн только для того, чтобы разоблачить бесчеловечное искусство.
хотя произведение интересно само по себе, один только факт непосредственного контакта с томасом манном, которого я давно привык считать мёртвым, сделал знакомство с книгой событием незаурядным.14527 Lestat_Celebrian10 ноября 2025 г.
Lestat_Celebrian10 ноября 2025 г.Повесть о нетакусе
Читать далееПовесть издана в далёком 1903 году, и по стилю это чувствуется. Язык автора довольно витиеватый, с обилием длинных предложений, но при этом невероятно живой и красивый. Он не пространный, не бестолковый. На данный момент «Тонио Крёгер» — единственное произведение Томаса Манна, с которым я знакома, но из-за стиля мне очень хочется прочесть что-нибудь ещё.
Сюжета в повести как такового нет. Начинается она с трогательного представления дружбы двух мальчиков, в которой один, как это часть бывает, любит другого больше. Уже тогда протагонист чувствует себя каким-то не таким — из-за склонности к поэзии. Постепенно он взрослеет, переключается на юную красавицу, в упор не замечая по-настоящему интересную для себя девочку, а там и вовсе покидает родной город. Творчество для протагониста— это что-то, что превозносит его над остальными. Он упивается своей инаковостью и довольно снобски относится к тем, кто смеет вторгаться в его профессию со своими жалкими стихами.
Автор очень хорошо раскрывает такого вот сноба в вакууме, который находится в процессе переосмысления себя. Вот только развития так и не случилось. Спустя много лет протагонист всё так же тянется к другу детства и своей первой любви, хотя он им никогда не был нужен, не стал нужен и теперь. Всё так же игнорирует человека, который мог бы сделать его счастливым. Восторженные иллюзии и жажда быть нужным небожителям, которых он сам воздвиг на пьедестал, для него важнее всего. Катарсис не наступает.
Именно развития мне и не хватило, за это повести только восемь танцевальных па из десяти. Но ознакомиться с ней однозначно стоит, особенно если вы и сами с творческим «грешком» за душой.
12181 BlueFish18 октября 2013 г.Читать далее
BlueFish18 октября 2013 г.Читать далееТонкое, умное, полное глубокого чувства произведение о душе творца и сущности творчества. Демонизм "Доктора Фаустуса" (талант vs любовь) здесь смягчен, хоть и присутствует; больше внимания уделяется трагическому разрыву между жизнью в холодном эфире духа и земными бюргерскими радостями, между творческой сублимацией, пусть даже самого возвышенного характера, и полнокровной жизнью. Главный герой, Тонио Крёгер, как в юности, так и в зрелые годы любит женщину и мужчину, воплотивших в себе плоть и радость земли, далеких ото всякого познания и духовности, но не может ни войти в их мир, ни добиться их симпатии, ни забыть их, ни отказаться от своего холодного дара.
Ты смеялась, белокурая Инге, смеялась надо мной, когда я танцевал moulinet и так ужасно осрамился? А теперь, когда я стал чем-то вроде знаменитости, ты бы тоже смеялась надо мной? Да, конечно, и ты была бы трижды права! Даже если бы я один создал Девятую симфонию, «Мир как воля и представление» и «Страшный суд» – ты все равно была бы вправе смеяться… Он взглянул на нее, и в его памяти ожила стихотворная строчка, давно не вспоминавшаяся и тем не менее такая знакомая и волнующая: "Хочу заснуть, а ты иди плясать…"
Пронизанный тонкой психологией, замечательно грустный рассказ вернул меня в детство, развоплотив пелену слов, которая часто меня окружает. "Хочу заснуть, а ты иди плясать..." - эти слова, наверное, полнее всего отражают пробудившееся в душе настроение, подкрепленное описаниями северных пейзажей.
Что сказать о стиле? Цитировать Манна можно бесконечно.
Он оглядывался назад, на годы, прожитые с того дня по нынешний. Вспоминал о мрачных авантюрах чувства, нервов, мысли, видел самого себя, снедаемого иронией и духом, изнуренного и обессиленного познанием, изнемогшего от жара и озноба творчества, необузданно, вопреки укорам совести, бросающегося из одной крайности в другую, мечущегося между святостью и огнем чувственности, удрученного холодной экзальтацией, опустошенного, измученного, больного, заблудшего, и плакал от раскаяния и тоски по родине.
Так получилось, что с Томасом Манном знакомлюсь только сейчас, и глубокое восхищение мое передать трудно. Кажется, у меня появился еще один любимый писатель.11699 BDSM-Reader31 июля 2025 г.Читать далее
BDSM-Reader31 июля 2025 г.Читать далееКривые улочки старинного прибрежного городка, где журчит фонтан и старый орешник неизменно цветёт и благоухает в саду. Где летние грёзы Балтийского моря колыхаются образами влюблённого юноши. Вышедшие из пены фантазии, рождаются зеркальной литографией маски слов. Поиск правдоподобия на ранних отпечатках в израненных жизнью и людьми стихах, что утешают хрупкость сосуда внимающей души. Затем - контрольные фрагменты разочарований из взрослой, проклятий и признаний ремеслу, этим играм разума и снов. И путешествие в другую страну в поисках утраченного, чтобы увидеть ярче, издалека, на сладко-болезненных и рекурсивных страницах повествования свет маяка. Чтобы найти дверь со знаком тайного алхимического огня, горящим сокровенным знанием, открывающим свободу творить.
8153