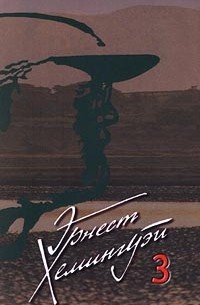
 Ваша оценка
Ваша оценкаСобрание сочинений в пяти томах. Том 3. Пятая колонна. По ком звонит колокол. Рассказы. Очерки. Речи
Цитаты
 Аноним6 мая 2022 г.
Аноним6 мая 2022 г.Раньше у нас была религия и прочие глупости. А теперь надо, чтобы у каждого был кто-нибудь, с кем можно поговорить по душам, потому что отвага отвагой, а одиночество свое все-таки чувствуешь.
474 Аноним10 сентября 2021 г.
Аноним10 сентября 2021 г.- Но, Пилар, - сказала Мария, - ты ведь сама говорила мне, что у нас с тобой ничего такого нет.
- Что-нибудь такое всегда есть.477 Аноним13 июля 2019 г.
Аноним13 июля 2019 г.Нет человека, который был бы как Остров, сам по себе: каждый человек есть часть Материка, часть Суши; и если Волной снесет в море береговой Утес, меньше станет Европа, и также, если смоет край Мыса или разрушит Замок твой или Друга твоего; смерть каждого Человека умаляет и меня, ибо я един со всем Человечеством, а потому не спрашивай никогда, по ком звонит Колокол: он звонит по Тебе.
4118 Аноним15 октября 2018 г.Читать далее
Аноним15 октября 2018 г.Читать далее- А все-таки чем же это пахнет? - спросил Фернандо. - Какой он, этот запах? Если пахнет чем-то, значит, должен быть определенный запах.
- Ты хочешь знать, Фернандито? - Пилар улыбнулась ему. - Думаешь, тебе тоже удастся учуять его?
- Если он действительно существует, почему бы и мне его не учуять?
- В самом деле - почему? - Пилар посмеивалась, сложив на коленях свои большие руки. - А ты когда-нибудь плавал по морю на пароходе, Фернандо?
- Нет. И не собираюсь.
- Тогда ты ничего не учуешь, потому что в него входит и тот запах, который бывает на пароходе, когда шторм и все иллюминаторы закрыты. Понюхай медную ручку задраенного наглухо иллюминатора, когда палуба уходит у тебя из-под ног и в желудке томление и пустота, и вот тогда ты учуешь одну составную часть этого запаха.
- Ничего такого я учуять не смогу, потому что ни на каких пароходах плавать не собираюсь, - сказал Фернандо.
- А я несколько раз плавала по морю на пароходе, - сказала Пилар. - В Мексику и в Венесуэлу.
- Ну, а что там еще есть, в этом запахе? - спросил Роберт Джордан. Пилар насмешливо посмотрела на него, с гордостью вспоминая свои путешествия. - Учись, Ingles, учись. Правильно делаешь. Учись. Так вот, после того, что тебе ведено было сделать на пароходе, сойди рано утром вниз, к Толедскому мосту в Мадриде, и остановись около matadero. Стой там на мостовой, мокрой от тумана, который наползает с Мансанареса, и дожидайся старух, что ходят до рассвета пить кровь убитой скотины. Выйдет такая старуха из matadero, кутаясь в шаль, и лицо у нее будет серое, глаза пустые, а на подбородке и на скулах торчит пучками старческая поросль, точно на проросшей горошине, - не щетина, а белесые ростки на омертвелой, восковой коже. И ты, Ingles, обними ее покрепче, прижми к себе и поцелуй в губы, и тогда ты узнаешь вторую составную часть этого запаха.
- У меня даже аппетит отбило, - сказал цыган. - Слушать тошно про эти ростки.
- Рассказывать дальше? - спросила Пилар Роберта Джордана.
- Конечно, - сказал он. - Учиться так учиться.
- С души воротит от этих ростков на старушечьих лицах, - сказал цыган. - Почему это на старух такая напасть, Пилар? Ведь у нас этого никогда не бывает.
- Ну еще бы! - насмешливо сказала Пилар. - У нас все старухи в молодости были стройные, - конечно, если не считать постоянного брюха, знака мужней любви, с которым цыганки никогда не расстаются...
- Не надо так говорить, - сказал Рафаэль. - Нехорошо это.
- Ах, ты обиделся, - сказала Пилар. - А тебе приходилось когда-нибудь видеть цыганку, которая не собиралась рожать или не родила только что?
- Вот ты.
- Брось, - сказала Пилар. - Обидеть всякого можно. Я говорю о том, что в старости каждый бывает уродлив на свой лад. Тут расписывать нечего. Но если Ingles хочет научиться распознавать этот запах, пусть сходит к matadoro рано утром.
- Обязательно схожу, - сказал Роберт Джордан. - Но я и так его учую, без поцелуев. Меня эти ростки на старушечьих лицах напугали не меньше, чем Рафаэля.
- Поцелуй старуху, Ingles, - сказала Пилар. - Поцелуй для собственной науки, а потом, когда в ноздрях у тебя будет стоять этот запах, вернись в город, и как увидишь мусорный ящик с выпрошенными увядшими цветами, заройся в него лицом поглубже и вдохни всей грудью, так, чтобы запах гниющих стеблей смешался с теми запахами, которые уже сидят у тебя в носоглотке.
- Так, сделано, - сказал Роберт Джордан. - А какие это цветы?
- Хризантемы.
- Так. Я нюхаю хризантемы, - сказал Роберт Джордан. - А дальше что?
- Дальше нужно еще вот что, - продолжала Пилар. - Чтобы день был осенний, с дождем или с туманом, или чтобы это было ранней зимой. И вот в такой день погуляй по городу, пройдись по Калье-де-Салюд, когда там убирают casas de putas и опоражнивают помойные ведра в сточные канавы, и как только сладковатый запах бесплодных усилий любви вместе с запахом мыльной воды и окурков коснется твоих ноздрей, сверни к Ботаническому саду, где по ночам те женщины, которые уже не могут работать в домах, делают свое дело у железных ворот парка, и у железной решетки, и на тротуаре. Вот тут, в тени деревьев, у железной ограды они проделывают все то, что от них потребует мужчина, начиная с самого простого за плату в десять сентимо и кончая тем великим, ценой в одну песету, ради чего мы вообще живем на свете. И там, на засохшей клумбе, которую еще не успели перекопать и засеять, на ее мягкой земле, куда более мягкой, чем тротуар, ты найдешь брошенный мешок, и от него будет пахнуть сырой землей, увядшими цветами и всем тем, что делалось на нем ночью. Этот мешок соединит в себе все - запах земли, и сухих стеблей, и гнилых лепестков, и тот запах, который сопутствует и смерти и рождению человека. Закутай себе голову этим мешком и попробуй дышать сквозь него.
- Нет.
- Да, - сказала Пилар. - Закутай себе голову этим мешком и попробуй дышать сквозь него. Вздохни поглубже, и тогда, если все прежние запахи еще остались при тебе, ты услышишь тот запах близкой смерти, который все мы знаем.
4299 Аноним31 мая 2018 г.Читать далее
Аноним31 мая 2018 г.Читать далее— Он сумасшедший.
— Ну что ты! Ведь он крупный политический деятель, — сказал Гомес. — Он главный комиссар Интернациональных бригад.
— Но он сумасшедший. У него мания расстреливать людей.
— И он их в самом деле расстреливает?
— Этот старик столько народу убил, больше, чем бубонная чума. Но он не как мы, он убивает не фашистов. С ним шутки плохи. Он убивает, что подиковиннее. Троцкистов. Уклонистов. Всякую редкую дичь.
— Когда мы были в Эскуриале, так я даже не знаю, скольких там поубивали по его распоряжению, — сказал капрал. — Расстреливать-то приходилось нам. Интербригадовцы своих расстреливать не хотят. Особенно французы. Чтобы избежать неприятностей, посылают нас. Мы расстреливали французов. Расстреливали бельгийцев. Расстреливали всяких других. Каких только национальностей там не было. И все за политические дела. Он сумасшедший.4337 Аноним31 мая 2018 г.Читать далее
Аноним31 мая 2018 г.Читать далееВ метель можно близко подойти к лесному зверю, и он не испугается тебя. Звери вслепую блуждают по лесу, и бывает, что олень подойдет к самой хижине и стоит у стены, прячась от ветра. В метель, случается, наезжаешь прямо на лося, и он принимает твою лошадь за другого лося и мирно трусит тебе навстречу. В метель всегда начинает казаться, будто на свете нет врагов и вражды. В метель ветер может дуть с ураганной силой, но он чистый и белый, и воздух полон вихревой белизны, и все кругом меняет свой облик, а когда ветер стихнет, наступает тишина и неподвижность.
4335 Аноним25 ноября 2017 г.
Аноним25 ноября 2017 г.Как ты думаешь, кому легче? Верующим или тем, кто принимает все так, как оно есть? Вера, конечно, служит утешением, но зато мы знаем, что бояться нечего.
434 Аноним11 декабря 2016 г.Читать далее
Аноним11 декабря 2016 г.Читать далее- Ты любишь охоту?
- Ох, люблю. Ничего так не люблю. У нас в деревне все охотники. А ты не любишь?
- Нет, - сказал Роберт Джордан. - Я не люблю убивать животных.
- А я наоборот, - сказал старик. - Я не люблю убивать людей.
- Этого никто не любит, разве те, у кого в голове неладно, - сказал Роберт Джордан. - Но я не против, когда это необходимо. Когда это надо ради общего дела.
- Все-таки это совсем другое, - сказал Ансельмо. - В моем доме, когда у меня был дом, - теперь у меня нет дома, - висели клыки кабана, которого я подстрелил в предгорье. Шкуры волчьи лежали. Волков я подстрелил зимой, гнался за ними по снегу. Одного, самого большого, я убил за деревней как-то в ноябре, под вечер, возвращаясь из лесу. Четыре волчьи шкуры лежали на полу в моем доме. Они были истоптаны до того, что совсем облезли, но все-таки это были волчьи шкуры. Были у меня рога горного козла, которого я подстрелил в Сьерре, и еще было чучело орла - его мне набил чучельник в Авиле, - крылья у него были раскрыты и глаза желтые, точь-в-точь как у живого. Очень красивая была вещь, и на все это мне было приятно смотреть.
- Да, - сказал Роберт Джордан.
- На дверях нашей деревенской церкви была прибита медвежья лапа; этого медведя я убил весной, встретил его на склоне горы, он ворочал бревно на снегу этой самой лапой.
- Когда это было?
- Шесть лет назад. Ее высушили и прибили гвоздем к дверям церкви, и когда я, бывало, ни посмотрю на эту лапу, - совсем как у человека, только с когтями, - всегда мне становилось приятно.
- Ты гордился?
- Гордился, потому что вспоминал ту встречу с медведем ранней весной на склоне горы. А вот если убил человека, такого же, как и ты сам, ничего хорошего в памяти не остается.
- Да, человечью лапу к дверям церкви не прибьешь, - сказал Роберт Джордан.
- Еще бы. Кому же придет в голову такое. А все-таки человечья рука очень похожа на медвежью лапу.
- И туловище человека очень похоже на медвежье, - сказал Роберт Джордан. - Если с медведя снять шкуру, видно, что мускулатура почти такая же.
- Да, - сказал Ансельмо. - Цыгане верят, что медведь - брат человека.
- Американские индейцы тоже, - сказал Роберт Джордан. - Они, когда убьют медведя, кланяются ему и просят прошенья. Вешают его череп на дерево и, прежде чем уйти, просят, чтобы он не сердился на них.
- Цыгане верят, что медведь - брат человека, потому что у него под шкурой такое же тело, и он пьет пиво, и любит музыку, и умеет плясать.
- Индейцы тоже в это верят.
- Значит, индейцы все равно что цыгане?
- Нет. Но про медведя они думают так же.
- Понятно. Цыгане еще потому так думают, что медведь красть любит.
- В тебе есть цыганская кровь?
- Нет. Но я много водился с цыганами, а с тех пор, как началась война, понятно, еще больше. В горах их много. У них не считается за грех убить иноплеменника. Они в этом не признаются, но это так.
- У марокканцев тоже так.
- Да. У цыган много таких законов, в которых они не признаются. Во время войны многие цыгане опять стали пошаливать.
- Они не понимают, ради чего ведется эта война. Они не знают, за что мы деремся.
- Верно, - сказал Ансельмо. - Они только знают, что идет война и можно, как в старину, убивать, не боясь наказания.
- Тебе случалось убивать? - спросил Роберт Джордан, как будто роднящая темнота вокруг и прожитый вместе день дали ему право на этот вопрос.
- Да. Несколько раз. Но без всякой охоты. По-моему, людей убивать грех. Даже если это фашисты, которых мы должны убивать. По-моему, медведь одно, а человек совсем другое. Я не верю в цыганские россказни насчет того, что зверь человеку брат. Нет. Я против того, чтоб убивать людей.
- Но ты убивал.
- Да. И буду убивать. Но если я еще поживу потом, то постараюсь жить тихо, никому не делая зла, и это все мне простится.
- Кем простится?
- Не знаю. Теперь ведь у нас бога нет, ни сына божия, ни святого духа, так кто же должен прощать? Я не знаю.
- А бога нет?
- Нет, друг. Конечно, нет. Если б он был, разве он допустил бы то, что я видел своими глазами? Пусть уж у них будет бог.
- Они и говорят, что он с ними.
- Понятно, мне его недостает потому что я с детства привык верить. Но теперь человек перед самим собой должен быть в ответе.
- Значит, ты сам себе и убийство простишь?
- Должно быть, - сказал Ансельмо. - Раз оно так понятно выходит по-твоему, значит, так и должно быть. Но все равно, есть ли бог, нет ли, а убивать - грех. Отнять жизнь у другого человека - это дело нешуточное. Я не отступлю перед этим, когда понадобится, но я не той породы, что Пабло.
- Чтоб выиграть войну, нужно убивать врагов. Это старая истина.
- Верно. На войне нужно убивать. Но, знаешь, какие у меня чудные мысли есть, - сказал Ансельмо. Они теперь шли совсем рядом в темноте, и он говорил вполголоса, время от времени оглядываясь на ходу. - Я бы даже епископа не стал убивать. Я бы не стал убивать ни помещика, ни другого какого хозяина. Я бы только заставил их всю жизнь изо дня в день работать так, как мы работаем в поле или в горах, на порубке леса. Чтобы они узнали, для чего рожден человек. Пусть спят, как мы спим. Пусть едят то, что мы едим. А самое главное - пусть работают. Это им будет наука.
- Что ж, они оправятся и опять тебя скрутят.
- Если их убивать - это никого ничему не научит, - сказал Ансельмо. - Всех не перебьешь, а молодые подрастут - еще больше ненавидеть будут. От тюрьмы тоже проку мало. В тюрьме только сильнее ненависть. Нет, лучше пусть всем нашим врагам будет наука.
- Но все-таки ты ведь убивал?
- Да, - сказал Ансельмо. - Много раз убивал и еще буду убивать. Но без всякой охоты и помня, что это грех.
4150
