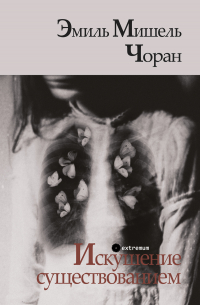«Гарвардская полка» дилетанта по жизни

- 281 книга
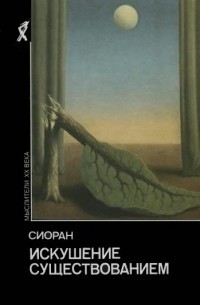
 Ваша оценка
Ваша оценкаЖанры
 Ваша оценка
Ваша оценка
Кажется, я нашла прототип кортасаровского Морелля. «Мореллиана» из «Игры в классики» до такой степени перекликается с сиорановскими страницами, полными блестящих афоризмов, но страдающими недостатком выводов, что сложно предположить, что Кортасар мог не читать Сиорана (Чорана, че!). Но если я все же ошибаюсь, то значит, есть что-то в парижском воздухе, порождающем эти убористые тексты, пропитанные отчаянием и кощунственным желанием осквернять так называемые общечеловеческие ценности.
Я не хочу оценивать Чорана (мне все-таки больше нравится использовать оригинальную румынскую фамилию, а не ее офранцуженную версию), потому что любая оценка будет определять только степень личной приязни или неприязни к суждениям автора. Я вытащила эту книгу из недочитанных и теперь, спустя примерно четыре года, прочитав ее, размышляю, что же вызвало в прошлый раз такое отторжение, что я не смогла продвинуться дальше 20 страниц. Пожалуй, Чоран сам все объяснил:
А ведь было время, когда, грезя о самоубийстве, я упивалась бы этими горькими и яростными страницами. «О разложении основ», работа, которой начинается сборник – это разрушение всего, что дорого человеческим существам, привязанным к своим мыслям, делам и творениям. Чоран критикует позитивизм и подвергает сомнению все и вся, но проблема в том, что он не может выйти из тупика двойственности, который неизбежно порождается нашим разумом, работающим по двоичной логике и маниакально плодящим дихотомии.
Трагедия автора в том, что он, отличаясь визионерским ясновидением, осознает двойственность как проблему, но не может выйти из нее. Он привязывается к отрицанию, и сам же признает, что отрицание – это обратная сторона утверждения, а значит – выхода нет.
Это агония разума, агония длиной в жизнь для одного человека, в историю – для человечества в целом. Разум, озаренный проблесками осознания, имеет склонность к самоубийству, но он никогда не сможет его осуществить, потому что разум не убивается разумом. Его может растворить только хаос, которому он отчаянно сопротивляется.
Если первое эссе – это ниспровержение всего, то второе, «Искушение существованием» – это дуалистический танец, метания между ненавистью к жизни и страстной любовью к ней и это колебания между вечностью и «слишком человеческим». Чорану дана глубина постижения при слабости духа, которая не позволяет оторваться от «милых» (читай – ненавистных) привычек, которые воспринимаются как приговор. Сидит в нем и страх западного человека, создавшего цивилизацию из ума: он боится потерять свое создание. Эмиль Чоран интуитивно тянется к восточной философии и в то же время боится ее.
Это неприятие ума, который видит для себя угрозу. Растворение в вечности – для него конец. Ошибка западных людей – это обращаться за спасением к восточной мысли: «В чем же состоит наш недуг? В столетиях внимания ко времени и поклонении будущему. В состоянии ли мы избавиться от этого с помощью китайской или индийской мысли?». Спасает не мысль, а практика, а восточные тексты – лишь комментарий к практике.
Отношения Чорана с Богом сложные: он как бы декларирует свое неверие, но настойчиво спорит с несуществующим Богом, критикует его, анализирует библейскую мифологию. Первородный грех, как ноющий зуб, не покидает сознание автора. Декларируемый им скептицизм препарирует снова и снова миф о падении. Он верит в падение человека и называет его «Падение во время». Из всех работ сборника именно эта понравилась мне больше всего. Это визионерское эссе балансирует между вечностью и сотворенным временем.
Боль как спасение. Чоран воспринимает боль как проводник прозрений, и он прав в том, что боль заставляет нас чувствовать реальность, но привязанность к боли создала ту садо-мазохистскую модель мира, в которой мы живем. И еще одну боль изливает Чоран – боль человека пишущего: «…ибо что такое слово, как не символ вакуума?» Слова бессильны и дискредитированы многократным употреблением, но у нас нет ничего кроме слов.
Еще раз оглядываясь на прочитанное, я понимаю, что в первый подход меня отвратил от чтения не смысл, а тон написанного: эта жалоба, эти проклятия, эта ненависть и в то же время интимность описания отношений человека с миром. Трудно принять свою никчемность, и Сиоран одушевляет даже пустоту, приписывая ей человеческие свойства. Он лучше будет терпеть боль и отождествляться с ней, чем растворится в безличности и безосновности.
Вещи не имеют сущности, а то, что мы о них говорим, имеет отношение только к нам самим. И мы тоже не имеем сущности, но наделяем себя всяческими атрибутами из страха перед пустотой. Эта мысль невыносима для большинства людей, и они, как говорит Чоран, стремятся максимально заполнить эту пустоту действием, не осознавая его абсурдности.
Чоран осознает и эту пустотность всего, и свою неспособность ей сдаться. Человек неизбежно терпит поражение во всех попытках метафизики, и только создание новых иллюзий позволяет ему сохранить рассудок.
Чоран не любил, когда его называли философом, в своих суждениях он часто противоречит себе, но то, как метко он умеет выразить мысль, вызывает восхищение. Любое его эссе можно почти целиком раздергать на цитаты.
Читать Чорана быстро невозможно. Только тот, кто отравлен миром или находится на грани самоубийства, может глотать такие книги запоем. Эссе Чорана хорошо читать по нескольку страниц в день и обдумывать, поэтому я, взяв эту книгу во флешмобе «Нон-фикшн», потерпела фиаско и попала в должники. Читайте гениального румына, не торопясь, и возможно это чтение станет прививкой от безысходности существования по методу от противного.

«…Его думы вспахали сознанье, как острые бороны,
Обрекая навек на пленение: верить и быть.
Мою голову сносит наотмашь мышление Чорана,
Моё сердце полно безответным желанием жить» (Л. Баграмова).
Эх, какая жалость, что я не знаю французского! Это невыносимо, трагически прекрасно звучит по-русски, но я всю жизнь, с первой прочитанной философской книги, была убеждена, что философский трактат надо читать именно на том языке, на котором он был написан, чтобы чувствовать и воспринимать мысли такими, какими их думал и выражал автор. Мой отец когда-то привёз из Франции «Признания и проклятия» и «Соблазн существования» Э.М.Чорана, читал сам и переводил мне отдельные фрагменты, которые я записывала для последующего обдумывания – это была моя «философия впрок». Прошли годы, и когда я вдруг увидела на обложке сломанный лист-дерево Р.Магрита и русскую надпись «Сиоран. Искушение существованием», что-то во мне сработало на уровне команды «купить-вспомнить-прочитать-обдумать». Я достала старые записи и погрузилась в чтение, почти как в ностальгию по себе.
Это – не очень привычная философия. Она предстаёт очень мозаично, фрагментарно, провокативно и очень нервно. Это - как беседовать с умным, но глубоко от тебя отстранённым человеком. Философ как бы и говорит с тобой, адресуется тебе, и всё же – это не о тебе, не для тебя, не с тобой, а о нём или о ком-то, столь же далёком от тебя, от живых моментов твоей живой жизни. Он метит свои афоризмы в тебя, но как бы поверх тебя, не видя тебя, смотря сквозь тебя. И тем не менее в каждом коротком тезисе звенит высочайшее напряжение – никакого вам «лукавого мудрствования», почти «жёсткий депрессняк». Это - философия под напряжением: «не подходи - убьёт». Такая философия - не вполне «моя». Моя привыкла восходить по русско-идеалистическим «завиткам логоса» и ещё больше - качаться в состоянии dolce far niente на постмодернистски-экзистенциальных «паутинах смыслов». И если вы тоже любитель Хайдеггера, Фуко или Барта, то вам почти нечего делать на страницах Сиорана - готовьтесь к безмолвному внутреннему отпору, спору и непониманию. Хайдеггер будет обвинён в словоблудии, Сартр – в эпигонстве, Фуко – в кретинизме, Барт – в претенциозности и манерничании. Достанется даже Фрейду, теория которого получит нелестный эпитет «квазинаучная порнография», а сам он будет пойман на стремлении заполучить ключ от того, от чего и вовсе нет ключа. Может быть, тезисы Сиорана - это даже и вовсе не философия, а, скорее, очень полемичная поэтика философии, дрейфующая от нигилизма к скептицизму, а от скептицизма – чуть ли не к буддизму.
Наверное, философы как-то иначе воспринимают тексты Сиорана, для меня же они оказались его философией самого себя – одинокого и несчастного, стоящего на грани патологии, философией под знаком пессимизма, отчаяния и смерти, философией угрюмого созерцания... в котором, как ни странно, я находила осколки, обрывки, клочки собственных не до конца додуманных мыслей, настигающих меня, как и любого человека, в час между Волком и Собакой.
Сиорану, наверное, лучше всех удалось почувствовать пресловутую тревожность бытия, и эта застигнутость непредсказуемо печальным бытием заставила его неожиданно романтизировать и интеллектуально возвысить тревожность, страх, пессимизм. Это интересно читать и обдумывать наедине с самим собой. Это очень хорошо написано, хочется растащить на цитаты. Несмотря на мотивы безнадежности, грусти, покинутости, эта философия странно терапевтична – читая, ты перестаёшь бояться, что чего-то не успеешь и не сделаешь в жизни, что тебя покинут-предадут-предоставят самому себе, что ты не достигнешь совершенства в несовершенном мире, что твои попытки вырваться за фрейм судьбы обречены на поражение, что тебе, как и любому человеку, вообще не суждено ни в чём достичь спасения и счастья… Ты просто перестаёшь думать об этом и начинаешь больше ценить те мгновения жизни, когда ты есть, когда ты живой. Твой образ «Я» претерпевает значительные коррекции. Ты уходишь от жёсткого целеполагания и мотивации достижения. Ты занимаешь спокойно-отстранённую позицию в отношении поисков смысла, истины - почти как Алёнушка из русской сказки, лежащая с камнем на дне ручья: «Что воля, что неволя, всё равно…». Книга и сама - зыбкая, колеблющаяся, как чьё-то смутно узнаваемое отражение в сумерках в холодной воде. Наверное, для обычного человека смысл её чтения – в настроении, которое колышется от ужаса и отвращения до слиянного с бытием тихого и смиренного равнодушия к тому, что было, есть и будет с тобой… Наверное, где-то здесь проходит граница осознания необходимости себя, желания жить и собственной свободы. Вот только свободы от… или свободы для…?

Интересно, очень много выписывала для себя. Но от этой книги хочется покончить с собой. Если Ницше - злость на бессилие, то Сиоран - отчаяние от бессилия.
Все люди несчастны, но многие ли из них об этом знают?

У греков интерес к философии пробудился в тот момент, когда их перестали удовлетворять боги. Рациональные понятия начинаются там, где кончается Олимп. Мыслить — значит перестать поклоняться, значит восстать против таинств и провозгласить их несостоятельность

Покажите мне хотя бы что-нибудь на этой земле, что началось бы хорошо и не окончилось бы плохо!.. Всякий «идеал», поначалу вскармливаемый кровью своих приверженцев, изнашивается и рассеивается, когда становится достоянием толпы

Проблемы нужно решать постоянно, потому что история — это вечный кризис








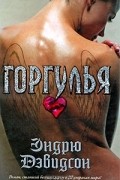





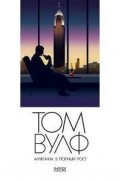

Другие издания