Автобиографии, биографии, мемуары, которые я хочу прочитать

- 2 044 книги

 Ваша оценка
Ваша оценка Ваша оценка
Ваша оценка
Совершенно особое и уникальное значение имеют дневники Бунина, он вёл их в течение своей долгой жизни. Многие записи были, к сожалению, утрачены, другие, например дневники второй половины 20-х годов, уничтожены им самим. Замкнутый, можно даже сказать, всю жизнь одинокий, редко и трудно допускавший кого-либо в свой внутренний мир. Бунин в дневниках с предельной искренностью вёл исповедь раскрывая себя как человек и художник; доверяет дневникам самые заветные, заповедные мысли и переживания. Он выражает в них свою преданность творчеству, свою близость с природой, до боли чувствуя её, её красоту, увядание, возрождение, говорит о муках искусства, о предназначении человека, тайне его жизни, выражает собственное страстное жизнелюбие и протест против неизбежности смерти. Это и замечательный, с контрастными светотенями автопортрет, и философское эссе, погружающий читателя в глубины творчества, и свидетельства зоркого внимательного очевидца исторических событий (переданных по своему, в резко субъективных тонах) на протяжении почти семи десятилетий. Дневники дают нам — с предельной полнотой и достоверностью — представления о цельном мировозрении Бунина, доносят некий непрерывный восторг и ужас бытия, наполненного для него постоянными думами об уходящей жизни. Очень многие записи, по сути своей, — отдельные и законченные художественные произведения, со своим сюжетом,композицией и глубочайшим внутренним смысловым наполнением, в непривычной для литературы, крайне обнажённой форме.
Очень любопытен эпизод, где поэтапная трёхплановость переходящих тематических событий произведения по-моему мнению уникальна: во-первых - лирическая, спокойная — умиротворяющий, простой старинный быт, смирение с неизбежностью ухода из жизни. Затем картины роскошной летней природы, радостный и яркий солнечный свет, густота сада, отдаленные крики петухов, — всё, что заставляет Бунина ещё острее ощутить краткость и бедность человеческой жизни вообще (лейтмотив всех дневниковых записей). Слышна песенка девочки — трогательной в своей малости кухаркиной дочки.
Другая - вторая часть, идёт весело,подступают мерно торжественные звуки вечности — всё проходит: и вдруг мрачно, торжественно-тяжело — переход к Тиверию, жестокому и страшному тирану, Цезарю. Какой перелёт воображения! Тиверий близок и понятен Бунину, как вот эта бедная девочка, как будто жил совсем недавно и среди всего этого под окном бродит, напевая, кухаркина дочь.
Вступает третья часть, тема человеческой истории, далёкого, и вдруг очень близкого прошлого. Тема эта, тема Тиверия, жила в Бунине, кстати, еще тридцать лет, пока в поздних рассказах он не поставит точку. А в дневниковой записи Бунин от Тиверия вновь возвращается к тому, с чего он начал: красота летней природы. — перед дождём; начало ливня; дождь до утра, внезапно напомнивший автору его детство, свежесть и радость первых дней жизни. Это выглядит умиротворяющим эпилогом, несущим пусть временное, но забвение от мыслей о происходящем там, в Петрограде семнадцатого года, да и по всей революционной России.
И подчеркнуто холодная концовка: скрытая сюжетная пружина сжимает начало и конец — два полюса: счастливо, прекрасно — и безвозвратно утеряно, бесплодно. Разве не законченное произведение? Но что перед нами? Рассказ? Нет, нечто большее, объявшее многое, что рассказу недоступно уже в силу условности сложившейся литературной формы, и нашедшее неожиданные смелые связи. Свобода переходов, доступная, пожалуй, только сновидению, но, в отличие от него, несущая генеральную, скрепляющую идею. — Тут и стихотворения в прозе, и философские жалобы, и неожиданно вписывающаяся в контекст грозного времени тень тирана Тиверия, и песенка маленькой девочки, — всё вместе. А ведь меньше трёх страниц текста!
Что касается пейзажных картин в дневниках, то они подчас не уступают в изобразительной силе лучшим бунинским рассказам. Только, пожалуй, ещё более настойчиво, чем в прозе, проводится (на протяжении десятилетий!) контраст между величием и красотой природы и убожеством, грязью, нищетой, жестокостью, даже дикостью деревенского человека, глубоко прячущего и стесняющегося своих добрых чувств как чего-то потаённого, запретного. Трагизм всё-таки смягчен пространными диалогами, художественными подробностями, тюканьем сверчка, появлением "дымчатой кошки". Здесь же, в дневнике, ничто не отвлекает от главного, всё обнажено до степени телеграфной строки, извещающей о человеческой беде. В прекрасном мире, на прекрасной земле живут доведённые или доведшие себя до отчаянного положения люди. И вот ещё одно, и немаловажное, значение дневников: оказывается, в них откладывались сюжеты, материал, подробности будущих рассказов и повестей.
Возвращаясь к одной из главных тем дневников Бунина — теме смысла жизни перед неизбежным приходом смерти, следует сказать, что русский человек, русский крестьянин воспринимается им, однако, не просто через "тупое отношение" к тайнам бытия. Всё, конечно, гораздо сложнее и достойнее огромного бунинского таланта. Ответа на этот вопрос Бунин, кажется, так и не находит. Впрочем, вероятно, рационального, логического ответа и не может быть найдено. Однако жалкость человеческого прозябания вообще, несправедливость такой жизни, которая просто недостойна породившей её природы, неотступно волнует его. Отсюда мысль его распространяется дальше и выше, достигая размахов диалога со Вселенной, Космосом, Богом в трагическом, неразрешимом противоречии между вечной красотой земного мира и краткостью существования в этом мире человека. Из одиноких, горестных и с годами, в изгнании, всё обостряющихся размышлений, доверяемых дневникам. Дневники — и это главное — дают нам как бы "нового" Бунина — увеличивают, будто под микроскопом, личность художника.
С помощью дневников мы можем проследить, как с юношеских лет Бунин вырабатывал в себе художника. Он непрерывно наблюдал, впитывал, и всё увиденное, кажется, готово было превратиться у него в "литературу" — луна на ночном небе, пашня под солнцем, старый сад, внутренность крестьянской избы. Но начиная с Первой мировой войны, с 1914 года, впечатления словно прорвали оболочку творчества, стали терзать его человечески, как утрата близких. И чем дальше, тем больше. В его дневниках мы читаем о лживо пафосных речах и тостах, разнузданном веселье "господ-интеллигентов" в столичных ресторанах — и о горе, унынии в деревне, об осиротевших детях и вдовах, обезлюдевших избах, о сгущении мрака. Только природа, в своём вечном великолепии, способна на время успокоить душевную боль, и в дневниках 1915–1917 годов можно наблюдать постоянный контраст в изображении красоты первозданной природы и бедности, скудости, мучений народа. Буржуазная революция 1917 года, падение империи только усиливают пессимизм Бунина в отношении будущего России как национального целого. Прослеживая тему эту в бунинских дневниках, идя против течения времени, вспять, видишь, что занимала она писателя задолго до наступления революционного 1917 года. Бунин много и настойчиво размышлял о том, что же такое народ, кого включать и почему в это безграничное понятие. Порой он даже сердился. Но ещё раньше, в самом начале 1910-х годов, наблюдая каждодневно за "мужиками", т. е. всеми и официально признаваемым "народом",Бунин ощущает прежде всего там огромный резервуар спящих и, по его мнению, ещё совсем диких, разрушительных сил. И — пока ещё, как видение, как страшный сон, — чудится ему пора, когда произойдёт революция.
Октябрь Бунин встретил враждебно. Но, разделив с другими путь эмигранта, он сохранил свою, и совершенно особенную, судьбу. Потеряв родину, эмигранты в большинстве своем могли впасть (и впали) лишь в отчаяние, неверие и злобу. Но не Бунин. Именно на расстоянии с наибольшей полнотой ощутил он то, что потаённо и глубоко жило в нём: глубоко личную, особенно острую ностальгию по России - "чувство России". Ранее, занятый литературой, поглощавшей главные его заботы, он испытывал надобность — как художник — в постижении некой чужой трагедии. Ни крах первой, самой страстной любви, ни смерть маленького сына, отнятого у него красавицей женой, ни даже кончина матери ещё не потрясли и не перевернули его так, не помешали упорному и самозабвенному усовершенствованию мастерства, стиля, формы. Теперь словно гарпун пронзил его насквозь, боль объяла его всего. "Конец" и "погибель" — любимые слова в записях этих лет. Но странно: он повторял о России с мрачной убежденностью: "конец", а Россия настигала его всюду. Даже посреди веселой ярмарки в Грассе — толпа французов, мычание коров — "и вдруг страшное чувство России" (запись в дневнике 3 марта 1932 года). Оно не отпускало его и в конечном счёте помогло выстоять вопреки всему, написать великие книги: "Жизнь Арсеньева", "Освобождение Толстого", "Тёмные аллеи". Это "чувство России" понудило его в мае 1941 года отправить два послания —Телешову и А. Н. Толстому — со словами: "Очень хочу домой".
Дневники отражают все сомнения и колебания Бунина, вплоть до желания, при вступлении немцев во Францию, уехать, как это сделала меценатка Цетлин или Марк Алданов, в Соединенные Штаты. Но не уехал! Остался в Грассе, с волнением следил за событиями на советских фронтах, думал о возвращении в Россию и с необыкновенной, молодой жадностью писал в дни творческих озарений, которые сменяли отчаяние. В сомнениях и твёрдости своей, в отчаянье и надежде, в окаянном одиночестве, какое надвигалось на него — вместе с болезнями, старостью, бедностью, — "чувство России" только и спасало Бунина. Эти последние годы его жизни были и самыми трагическими. Он был жестоко обманут в своей последней любви, о чём оставил в дневниках горькие свидетельства; вынужденно делил кров с тяжелым, по-видимому, психически нездоровым нахлебником, котрого терпел только к уважению своей супруги; наконец, познал на исходе жизни и враждебность эмиграции, которая в большинстве своём отвернулась от него. Друг его жизни, Вера Муромцева-Бунина, как могла, старалась облегчить последние дни. Но жажда жизни, ощущение, что он ещё не свершил всего, не покидали умирающего писателя. В год своей кончины, в ночь с 27 на 28 января 1953 года, уже изменившимся почерком Бунин заносит в дневник:
“Замечательно! Всё о прошлом, о прошлом думаешь, и чаще всего всё об одном и том же в прошлом: об утерянном, пропущенном, счастливом, неоценённом, о непоправимых поступках своих, глупых и даже безумных, об оскорблениях, испытанных по причине своих слабостей, своей бесхарактерности, недальновидности и неотмщённости за эти оскорбления, о том, что слишком многое, многое прощал, не был злопамятен, да и до сих пор таков. А ведь вот-вот всё, всё поглотит могила!"
Драматический, героико-трагический автопортрет Бунина, возникающий в его дневнике, в этой мемуарно-публицистической прозе, завершается последним откровением.

Отзывы о литераторах из «Дневников» Бунина:
Пьеса А. Вознесенского «Актриса Ларина». Я чуть не заплакал от бессильной злобы. Конец русской литературе! Как и кому теперь докажешь, что этого безграмотного удавить мало!
Начал читать Н. Львову – ужасно. Жалкая и бездарная провинциальная девица.
Рассказ Чулкова «Дама со змеей». Мерзкая смесь Гамсуна, Чехова и собственной глупости и бездарности.
Начал перечитывать «Минеральные воды» Эртеля – ужасно! Смесь Тургенева, Боборыкина, даже Немировича-Данченко и порою Чирикова. Вечная ирония над героями, язык пошленький.
Читал последние дни «Василия Теркина» Боборыкина. Скука адова, длинно, надумано.
Читаю Блока – какой утомительный, нудный, однообразный вздор, пошлый своей высокопарностью и какой-то кощунственный.
На ночь читал Белого «Петербург». Ничтожно, претенциозно и гадко.
Понемногу читаю «Леонардо да Винчи» Мережковского. Ужасный «народился» разговор. Длинно, мертво, натащено из книг. Местами недурно, но почем знать, может быть, ворованное!
Дочитал Гиппиус. Необыкновенно противная душонка, ни одного живого слова, мертво вбиты в тупые вирши разные выдумки. Поэтической натуры в ней ни на йоту.
Фельетон Сологуба «Преображение жизни». Надо преображать жизнь, и делать это должны поэты. А так как Сологуб тоже причисляет себя к поэтам, то и он преображает, пиша. А писал он всегда о гнусностях, о гадких мальчиках, о вожделении к ним. Ах, сукины дети, преобразители.
Кончил «18-й год» А. Толстого. Подлая и почти сплошь лубочная книжка. Написал бы лучше, как он сам провел 18-й год! В каких «вертепах белогвардейских»! Как говорил, что сапоги будет целовать у царя, если восстановится монархия, и глаза прокалывать ржавым пером большевикам.
«На дне» – верх стоеросовой примитивности, произведение семинариста или самоучки, и вообще играть теперь Горького, если бы даже был и семи пядей во лбу, верх бесстыдства. Ну, актеры уж известная сволочь в политическом смысле.
Пробовал читать Горького, «Вареньку Олесову», которую читал лет 40 тому назад с отвращением. Теперь осилил только страниц 30 – нестерпимо – так пошло и бездарно, несмотря на все притворство автора быть «художником».
Кончил перечитывать рассказы Бабеля «Конармия», «Одесские рассказы» и «Рассказы». Очень способный – и удивительный мерзавец. Все цветисто и часто гнусно до нужника. Патологическое пристрастие к кощунству, подлому, нарочито мерзкому.
Нынче и вчера читал рассказы Зощенко. Плохо, однообразно. Только одно выносишь – мысль, до чего мелка и пошла там жизнь. И недаром всегда пишет он столь убогим, полудикарским языком – это язык его несметных героев, той России, которой она стала.
Кончил вчера вторую книгу «Тихого Дона». Все-таки он хам, плебей. И опять я испытал возврат ненависти к большевизму.
Свою порцию бунинской ненависти получают и те, кто не является его соотечественником. Впрочем, французскую литературу я тоже сильно недолюбливаю, так что тут с ним в основном соглашусь.
Перечитал «Жестокие рассказы» Вилье де Лиль Адана. Дурак и плебей Брюсов восхищается. Рассказы – лубочная фантастика, изысканность, красивость, жестокость и т.д. – смесь Э. По и Уайльда, стыдно читать.
Кончил «Даму с камелиями» . Ничуть не трогает, длинно, фальшиво.
Читаю собрание сочинений Бодлэра «Маленькие поэмы в прозе». Ничтожны, изысканны до Бальмонтовщины, мелодраматичны.
Недели две тому назад перечитал три романа Мориака. Разочарование.
Читал Стендаля. Бесконечная болтовня.
Вчера перечитывал (давно не читал) «Восточные повести» Лермонтова: «Измаил-Бей», «Ангел смерти» и т.д. Совершенно детский, убогий вздор, но с замечательными проблесками.
Вчера еще читал «Вечерние огни» Фета – в который раз! Почти все из рук вон плохо. Многое даже противно – его старческая любовь. То есть, то, как он ее выражает.
Перечитываю Гоголя – том, где «Рим», «Портрет». Нестерпимое «плетение словес», бесконечные периоды. «Портрет» нечто совершенно мертвое, головное. Начало «Носа» патологически гадко – нос в горячем хлебе! «Рим» – задыхаешься от литературности и напыщенности.
Понемножку читал эти дни «Село Степанчиково». Чудовищно! Уже пятьдесят страниц – и ни на йоту, все долбит одно и то же! Пошлейшая болтовня, лубочная в своей литературности! Всю жизнь об одном, о подленьком, о гаденьком!
Не знаю, кого больше ненавижу, как человека – Гоголя или Достоевского.

В молодости неприятности надолго не держались у меня в душе — она их, защищаясь, выбрасывала.

Мы не подозреваем, какие изумительные силы и способности ещё таятся в нас с пещерных времён.
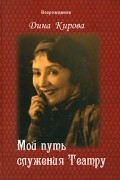





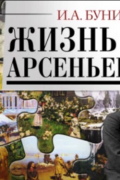







Другие издания
