
Список Валерия Губина

- 1 091 книга
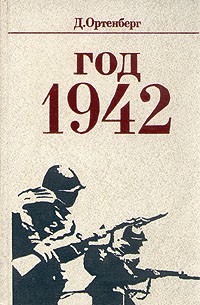
 Ваша оценка
Ваша оценкаЖанры
 Ваша оценка
Ваша оценка
У "порохового века" русской литературы эпохи Великой Отечественной был свой крестный отец. Так уж сложилась судьба Давида Ортенберга, что толком ему не пришлось учиться. Закончив семь классов, ему нигде, кроме одногодичных партшкол, обыкновенной и высшей, больше не пришлось сидеть за партой. Учила его жизнь, работа, но только потому, что он хотел и умел учиться и учеником был очень толковым. Журналистика оказалась его призванием, дар редактора был дан свыше, и еще свыше была дана огромная смелость и ответственность за свои поступки перед лицом сильных мира сего.
Его звезда военной журналистики взошла еще на Халхин-Голе, когда он "мобилизовал" в до того унылую армейскую пропагандистскую газету случайно оказавшихся в Монголии писателей – Бориса Лапина и Захара Хацревина, погибших потом в сорок первом в киевском окружении, и Льва Славина. Затем редакцию пополнили Владимир Ставский, считавшийся тогда очень крупной литературной фигурой, незадолго до этого возглавивший Союз писателей, и молодой поэт Константин Симонов – Ортенберг затребовал, чтобы из Москвы прислали поэта, так как посчитал, будто в газете должны регулярно печататься стихи, а это в те времена было довольно дерзкой новацией. Решительно сломав ведомственную структуру и стиль армейской журналистики, он считал, что газету должны делать те, кто не только оперативно, но и хорошо пишет. Поэтому в «Красную звезду», возглавленную им в первые дни Великой Отечественной, он сразу же привлек в качестве штатных сотрудников – фронтовых корреспондентов – писателей первого литературного ряда: Илью Эренбурга, Василия Гроссмана, Константина Симонова, Андрея Платонова, Николая Тихонова, Бориса Лапина и Захара Хацревина, Евгения Габриловича. Именно в главной после "Правды" газете страны в те годы (и безусловно - самой главной в окопах от Заполярья до Кавказа), навеки остались в истории войны пламенные статьи Ильи Эренбурга, здесь зажглась звезда поэта и прозаика Константина Симонова, сюда приходил Твардовский с "Василием Тёркиным", на кромке волжского берега в перерывах между боями Василий Гроссман слал в газету главы своего рассказа "Народ бессмертен". Эти лейтенанты, капитаны, майоры от литературы и фотографии погружались в глубины с подводными лодками, взлетали на бомбардировщиках, чтобы сделать кадры боевого вылета, слушали рассказы бойцов в передовых окопах Ржева, Сталинграда или Малой Земли. Восемнадцать человек из редакции - почти половина - погибли на фронтах Великой Отечественной.
Роль "Красной звезды" заключалась не только в пропаганде и умении достучаться до сердца солдата. Газета была еще и важнейшим источником знаний о противнике и школой науки побеждать, в ней постоянно публиковались статьи и простых солдат и генералов с описанием военного опыта, грядущих фронтовых задачах, а личное знакомство редактора с маршалами Жуковым, Василевским и другими позволяло получать комментарии из первых рук. Весьма часто газета выступала инициатором награждения отличившихся бойцов (кстати, легенду о 28 панфиловцев запустила тоже "Красная звезда"), критиком сложившейся ошибочной практики боевой или политической работы, бесконечно приводила примеры правильной тактики или солдатской смекалки. Авторитет у газеты был высочайший, невзначай Давид Ортенберг даже написал, что имел право напрямую звонить Сталину, что могли делать очень и очень немногие люди в нашей стране. Сам Сталин был постоянным читателем газеты, правил наиболее важные статьи, и отвечал на страницах на письма и телеграммы.
Мемуары несколько необычны по содержанию. Привычный хронологический порядок тяжелого 1942 года соблюдался, но Давид привязал свои воспоминания к выпускам газеты - день за днем, номер за номером. Он вспоминает как и при каких условиях была получена та или иная статья, и как часто приходилось рисковать жизнью корреспондента и фотографам газеты; как Эренбургу передается очередная черная весть о зверствах немцев, как ответственный редактор, чуть ли не нарушая военную тайну пропускает радостные статьи о замыкании кольца под Сталинградом, как идет за консультацией к Жукову или Щербакову, и как Симонов приносит свою знаменитую "Смерть друга". А собственный литературный талант делает книгу на 450 страниц буквально проглатываемой. Я немного жалею, что не знал о подобном труде, купив книгу в букинистическом перед хронологически первым "Год 1941". Остается только заказать и другие мемуары автора, великолепные по живости и тончайшим деталям выписанных портретов современников военной эпохи.

Наш корреспондент по Калининскому фронту Леонид Высокоостровский прислал в редакцию «объявление»: он снял его со стены дома в одном из освобожденных городов. «Объявление» написано немцем, видимо, недоучившимся русскому языку. Вот несколько строк из него:
«Все жители должны немедленно после возглашения бурмистра зарегистрироваться.
Исключения допущены с разрешением о невнушительности от охранной полиции...
Применять немецкий привет есть преимущество германских поданных...
Кто имеет типографию или тому подобное заведение для распространения производств умственных работ должен иметь на это разрешение.
Всем управным приказам выданные немецкими военными частями необходимо слушаться».
Среди различных запретов и такой:
«Знаки величия русского государства в занятой русской области вести и применять не разрешено».
Такие материалы сразу же передаются Илье Эренбургу.
Передали и это «объявление». А в сегодняшней газете появилась его статья «Знаки величия».
Писатель не стал комментировать «неграмотный и глупый бред прусского солдафона», но по поводу «знаков величия русского государства» сказал свое слово. Приведу его хотя бы в выдержках:
«Я не понимаю точного смысла этих отвратительных и наглых слов, но я хорошо понимаю их намерение: унизить наш народ. Жалкие потуги палача-на-час поколебать величие России!
В Ясной Поляне немцы хотели уничтожить наши «знаки величия», и для этого надругались над могилой Толстого. Но Толстой по-прежнему велик, и ничтожен презренный Гитлер...
Нельзя уничтожить «знаки величия русского государства» — они в сердцах каждого русского. Они неистребимы и в захваченных немцами городах. О славе прошлого, о вольности, о высоком искусстве говорят камни Новгорода. О великой борьбе русского народа шумит скованная льдом Березина. Партизаны в русских лесах — это «знаки величия». И спокойные лица русских героев, которых немцы ведут на виселицу, — это тоже священные «знаки величия русского государства».
Они хотят, чтобы русские перестали быть русскими — мыши пусть изгрызут Арарат! Из кровавой метели Россия выйдет с высоко поднятой головой — еще выше, еще прекрасней.
«Знаки величия»? Русский язык. Не тот, на котором пишут свои приказы полуумные немцы, нет. Тот, на котором писал бессмертный Пушкин.
«Знаки величия»? Память. Русские люди в захваченных немцами городах помнят и ждут. Трудно было ждать в октябре. Легче ждать в феврале: громко гремят орудия, тихо скрипят лыжи — это Красная Армия идет на запад».

Очередная моя поездка на фронт — 20-я армия. Взял с собой одного из наших литературных работников, Александра Кривицкого. За Волоколамском, у Лудиной горы, нашли командный пункт армии. Командовал ею человек, чье имя называешь с отвращением, — Власов. Может быть, об этой встрече и не стоило бы писать, но нельзя уходить от всего, что было тогда, а было не только благородное и хорошее, но и плохое, даже мерзкое.
В штабном блиндаже нас встретил мужчина высокого роста, худощавый, в очках с темной оправой на морщинистом лице. Это и был Власов. Посидели с ним часа два. На истрепанной карте с красными и синими кружками, овалами и стрелами он показал путь, который прошла армия от той самой знаменитой Красной Поляны, чуть ли не окраины Москвы, откуда немцы могли уже обстреливать из тяжелых пушек центр города. Рывок большой, быстрый совершила армия. Но сейчас наступление по сути приостановилось.
Втроем на крестьянских санях через оголенный, расщепленный и казавшийся мертвым лес поехали в дивизию, оттуда — в полк. Здесь идут бои местного значения: то берут какую-то безымянную высотку, то отдают, ночью ее снова будут атаковать. Очевидно, на многое рассчитывать не приходится.
Видели мы Власова в общении с бойцами на «передке» и в тылу — с прибывшим пополнением. Говорил он много, грубовато острил, сыпал прибаутками. Кривицкий запомнил и записал: «При всем том часто оглядывался на нас, проверяя, какое производит впечатление. «Артист!» — шепнул дивизионный...» Ну что ж, пришли мы к выводу, каждый ведет себя в соответствии с натурой, грех не самый большой.
Возвратились мы на КП армии вечером. Власов завел нас в свою избу. До позднего вечера мы беседовали с ним, потом, оставив Кривицкого здесь ночевать, ушли в штабной блиндаж. Ночью немцы открыли такой сильный артиллерийский огонь, что хаты ходуном ходили. И вот Власов звонит к себе в избу, будит Кривицкого и спрашивает:
— Вы что делаете?
— Сплю, — отвечает тот.
— Спите! И не беспокойтесь, я сейчас прикажу открыть контрбатарейную стрельбу...
Вот, подумали мы, какое внимание нашему брату-газетчику!..
Вспоминаю, что Власов то и дело употреблял имя Суворова, к месту и не к месту. От этого тоже веяло театром, позерством. Кстати, это заметили не только мы. Через неделю в 20-ю армию поехал Эренбург. Пробыл там двое суток. Встречался с Власовым. Впечатления совпали. Эренбург рассказывал мне, а потом в своих воспоминаниях написал: «Он меня изумил прежде всего ростом — метр девяносто, потом манерой разговаривать с бойцами — говорил он образно, порой нарочито грубо... У меня было двойное чувство: я любовался и меня в то же время коробило — было что-то актерское в оборотах речи, интонациях, жестах. Вечером, когда Власов начал длинную беседу со мной, я понял истоки его поведения: часа два он говорил о Суворове, и в моей записной книжке среди других я отметил: «Говорит о Суворове как о человеке, с которым прожил годы».
Дальнейшая судьба Власова, имя которого стало синонимом самой подлой измены, хорошо известна. Именно к нему применимы слова Горького: «Сравнить предателя не с кем и не с чем. Я думаю, что даже тифозную вошь сравнение с предателем оскорбило бы».
Читатель может меня спросить: не хочу ли я сказать, что в те дни я почувствовал двоедушие Власова? Нет, таким прозрением я не обладал, да и не только я — люди, которые вместе с ним служили, не догадывались, что он таит в своей душе.
Когда мы узнали о предательстве Власова, Эренбург зашел ко мне, долго ахал и охал: мол, чужая душа — потемки. Он вспомнил поговорку, услышанную от Власова: «У всякого Федорки свои отговорки». Рассказывал, что, прощаясь, Власов трижды его поцеловал. Илья Григорьевич и сейчас тер щеку, словно старался стереть оставшийся там след от иудиных поцелуев...

Конечно, немцы — специалисты на эрзацы. Они выдают опилки за мёд, войлок на деревянной подошве за валенки и Геббельса за человека. Неудивительно, что они могут курить "специально обработанную бумагу" и думать, что курят табак.
Другие издания
