
Серия «КВАДРАТ»

- 62 книги

 Ваша оценка
Ваша оценкаЖанры
 Ваша оценка
Ваша оценка
Оказывается, роман этот начинается с того места, где заканчивается "Кадиш по нерожденному ребенку", а тот в свою очередь, видимо, продолжение более раннего "Без судьбы". Короче, начала я эту селедку с хвоста.
Повествование ведется от лица редактора с говорящей фамилией Горький (не Максим). Начинается все с того, что н в очередной раз перечитывает рукопись своего друга писателя Б., покончившего жизнь самоубийством. Собственно, весь роман состоит из частей пьесы Б. "Самоликвидация", перемежающихся воспоминаниями и комментариями Горького (Кешерю), причем, местами все так перемешано, что не всегда сразу улавливаешь, что где. Пьеса начинается с событий девятилетней давности т.е. с самоубийства автора, которое он запланировал, видимо, заранее, последующие же события (так совпадает?) мало отличаются от реальных. У всех персонажей, задействованных в пьесе, есть прототипы - немногочисленные знакомые Б. и Кешерю. Из всех этих разрозненных сцен, отрывков воспоминаний и приступов рефлексии у персонажей вырисовывается следующее: Б., талантливый писатель и исключительная личность, в прошлом пленный Освенцима, придумывает теорию выжившего:
И самоубийство, над которым все гадают, - всего лишь следствие этой теории:
Маячащие всю дорогу фоном еврей, Освенцим, лагерь, выживший под конец вырастают в разросшийся в гиганта параноидальный образ, заключенный в исповеди бывшей супруги Б.:
Последняя фраза, да и вообще персонаж Б. как бы намекают на самого Имре Кертеса. Как видите, Освенцима тут через край, если не знать биографию автора, можно подумать, что эта интенсивная эксплуатация образа концлагеря нужна для придания большей трагичности. Читать из-за вязкой подачи и обильной рефлексии немного утомительно и, честно говоря, не особо интересно.

Автор умница. Переводчик замечательный. Книга очень увлекательная с почти детективным сюжетом: в тот день, когда я ее читала, я несколько раз проезжала мимо своей станции в метро =) Но что-то у меня с ней не сложилось.
Бывает, что какой-нибудь, казалось бы, не очень значительный штрих в образе персонажа напрочь лишает желания ему сопереживать. Например, персонажу философы-позитивисты не нравятся или пьет он многовато, и от этого у меня срабатывает какой-то психологический триггер, и эмпатия сразу куда-то улетучивается.
Здесь мне после очередного высказывания бедолаги Кешерю про его толстый редакторский портфель подумалось, что в наше время Кешерю был бы хипстером. И сразу представилось, как он в обтягивающих брючках попугаистой расцветки заказывает латте в Старбаксе из какого-нибудь кофе мягкой обжарки, непременно до второго хлопка кофейных зерен, или покупает масло для своей ламбер-сексуальской бородки, чтобы ему было приятнее ее жамкать, когда читает рукопись.
Я, конечно, понимаю, что это скорее про "лихие девяностые" в Венгрии, и не было там никакого латте в Старбаксе и хипстерской одежонки у персонажа: пил он, поди, бедолага, чай из веника, сидя в истянутом свитере за рассохшимся столом в издательстве. И на бомжей он на настоящих в окно смотрел, а не на актеров вербатима в каком-нибудь новомодном театре. Но вот почему-то Кешерю люто бешено меня раздражал всё время, пока я читала книгу.
И если "Без судьбы" и "Кадиш" - это, безусловно, высший балл, то тут даже не знаю, что поставить.

Нет, нет, литературным работником, а затем издательским редактором становятся главным образом по ошибке. Во всяком случае, западней, в которую ты попадаешь, служит литература. Или, скажем точнее, чтение. Чтение как наркотик, который приятно баюкает и расслабляет, размывая, смягчая жесткие контуры довлеющей над нами жизни.

Я прочел ее, и затем она, как и другие книги, постепенно уснула, угасла в сознании, погребенная под вязкими, рыхлыми слоями всего того, что я в то время читал. О, сколько книг спит во мне, книг плохих и хороших, книг, написанных в самых разных жанрах! Сколько в моей памяти фраз, слов, абзацев, стихотворных строк, которые неожиданно, словно беспокойные квартиранты, вылезают вдруг откуда-то и слоняются в одиночестве, а иной раз поднимают у меня в голове шум и гам, и я не могу их утихомирить никакими силами.

С фамилией Кессельбах расстался, еще в годы Первой мировой войны, мой дед. Поскольку бедняга как раз потерял на фронте своего старшего — любимого — сына и поскольку первую букву фамилии принято было, да и из практических соображений (каким бы невероятным это ни показалось, в то время люди еще носили белье с монограммами) целесообразно было сохранять, то дед выбрал фамилию Кешерю: очень уж горькой была его жизнь.



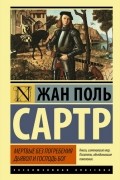












Другие издания
