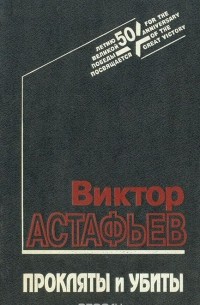История России в романах

- 131 книга

 Ваша оценка
Ваша оценкаЖанры
 Ваша оценка
Ваша оценка
Читая трагичное произведение Вересаева Викентий Вересаев - На японской войне и испытывая душевные страдания от описанной действительности, я поняла, что теперь морально готова взяться за давно отмеченную книгу Астафьева о тяготах военной жизни, так как интересно стало сравнить, каким образом авторы разных эпох описывают "обратную сторону" войны.
С данным романом Виктора Петровича у меня изначально складывались непростые отношения, несколько раз я добавляла и удаляла его из виш-листа, ведь одни рецензенты определяли данный роман как must read, другие же критиковали за чернуху и смакование физиологических подробностей человеческой жизнедеятельности. И я согласна со вторыми: для меня чтение вышло достаточно неприятным, браться за книгу лишний раз не хотелось и требовалось некое волевое усилие, чтобы продолжать. В повествовании я не увидела героя, которому бы хотелось сочувствовать и за которого я бы переживала, при том, что тут несомненно есть положительные персонажи, все же сама авторская манера, тон повествования мне чужд и вызывает отторжение (такое же впечатление произвела небольшая автобиография, помещенная в начале издания, я словно читала брюзжание всем недовольного деда). Чем-то первая часть романа "Прокляты и убиты" напоминает мне творчество Шаламова (книгу Варлам Шаламов - Колымские рассказы (сборник) ) тут тоже урки, блатные, грязь и болезни, но при этом нет того накала эмоций, "эстетического
удовольствия" от гадости, в которую макает нас писатель.Зато в данной книге все густо присыпано религиозностью, неким идеализированием старообрядчества и общего уклада прошлого, который был безжалостно сломан советской властью.
Если не уйметесь, на мороз выгоню! — фальцетом звучал Яшкин. — Дрова пилить!
— Я б твою маму, генерал…
— Маму евоную не трожь, она у него ц.лка.
— Х-хэ! Семерых родила и все целкой была!..
— Одного она родила, но зато фартового, гы-гы!..
— Сказал, выгоню!
— Хто это выгонит? Хто? Уж не ты ли, глиста в обмороке?
— Молчать!
— Стирки не трожь, генерал! Пасть порву!
— У пасти хозяин есть.
— Сти-ырки не рви, пас-скуда!
Из-под навеса нар на Яшкина метнулся до пояса раздетый, весь в наколках блатной и тут же, взлаяв, осел на замусоренный лапник. Яшкин, вывернув нож, погнал блатного пинками на улицу.
При этом первая часть данного романа не о войне, она скорее о "мерзостях русской жизни", о том, как неустроена казарменная жизнь (тут даже не казармы, а землянки в лесу, где ютятся новобранцы), о необразованности "простого люда", об отсутствии у них элементарных привычек гигиены, поэтому недалёкие люди предпочитают мочиться в том же помещении, где и спят, вместо того, чтобы выйти на улицу.
Утром карантин плакал, стонал, матерился, исходил истерическими криками — все пухлые мешки новобранцев были порезаны, содержимое их ополовинено, где и до крошки вынуто. Блатняки реготали, чесали пузо, какие-то юркие парни шныряли по казарме, отыскивая воров, одаривая оплеухами встречных-поперечных. Вдали матерился Яшкин: несмотря на его приказ и запрет, нассано было возле нар, подле дверей, в песке сплошь белели солью свежие лунки. Запах конюшни прочно наполнил подвал, хотя сержант и распахнул настежь тесовую дверь, в которую виден сделался квадрат высветленного пространства.
В карантинных землянках многолюдствие и теснота, драки, пьянки, воровство, карты, вонь, вши. Никакие дополнительные меры вроде внеочередных нарядов, лекций, бесед, попыток проводить занятия по военному делу не могли наладить порядок и дисциплину среди шатучего людского сброда. Давно раскурочены котомки старообрядцев и их боевых сподвижников, давно кончился табак, но курить-то охота и жрать охота. Промышляй, братва! Ночами пластаются котомки вновь прибывших, в землянках идет торг и товарообмен, в столовке под открытым небом кто пожрет два раза, кто ни разу.
Были и такие, как Зеленцов, добычу вели особняком, жили по-звериному уединенно.
Хохлак и Фефелов — бывшие беспризорники, опытные щипачи — работали ночами, днем спали. Если их начинали будить и назначать в наряд, компания дружно защищала корешей, крича, что они всю ночь дежурили. Костя Уваров и Вася Шевелев ведали провиантом — занимали очереди в раздаточной, пекли на печи добытую картошку, свеклу, морковь, торговали, меняли вещи на хлеб и табак, где-то в лесных дебрях добывали самогонку. Лешка Шестаков и Коля Рындин пилили и таскали дрова, застилали искрошенный лапник на нарах свежими ветками, приносили воду, вырыли в отдалении и загородили вершинами сосняка персональный нужник. Лишь Петька Мусиков уединенно лежал в глубине нар, вздымаясь только по нужде и для принятия пищи.
Под деревьями рядами стояли пять подвалов со всюду распахнутыми воротами-дверями, толсто белел куржак над входами — это и был карантин двадцать первого стрелкового полка, его преддверие, его привратье. Мелкие, одноместные и четырехместные, землянки принадлежали строевым офицерам, работникам хозслужб и просто придуркам в чинах, без которых ни одно советское предприятие, тем более военное подразделение, никогда не обходилось и обойтись не может.
У парней посасывало в сердце, всем было тревожно оттого, что незнакомое все кругом, казенное, безрадостное, но и они, выросшие не в барской неге, по баракам, по деревенским избам да по хибарам городских предместий собранные, оторопели, когда их привели к месту кормежки. За длинными, грубо сколоченными из двух плах прилавками, прибитыми ко грязным столбам, прикрытыми сверху тесовыми корытами наподобие гробовых крышек, стояли военные люди, склоненные как бы в молитве, — потребляли пищу из алюминиевых мисок. Столы-прилавки тянулись длинными, надсаженно-прогнутыми рядами, упираясь одним концом в загаженный полуободранный лес, другим — в растоптанный пустырь, в этакое жидкое, никак не смерзающееся, растерзанное всполье военного городка, по которому деловито ходили вороны, чего-то вышаривали клювами в грязи, с криком отлетали из-под ног людей, на ходу заглатывающих пищу и одновременно сбивающихся среди грязи в терпеливый строй.
Мест здесь, как и во всех людских сборищах, как и везде в Стране Советов, не хватало. Люди толпились у раздаточных окон кухни, хлеборезки, заняв стол-прилавок, держали за ним оборону. Получив кашу в обширные банные тазы из черного железа, стопки скользких мисок, служивые с непривычки не знали, куда с ними притиснуться, где делить хлеб, сахар, есть варево.
В санчасть Попцова не брали, он там всем надоел, на верхние нары не пускали — пообмочит всех, мокрому да на занятия кому охота?
Все более стервенеющие сослуживцы били Попцова, всех доходяг били, а доходяг с каждым днем прибавлялось и прибавлялось. На нижних нарах, клейко слепившихся, лежало до десятка скорченных скулящих тел. Кто-то, не иначе как Булдаков, додумался выдернуть скобы из столбов, чтобы доходяги не могли лезть наверх, но если они все же со дня, когда рота была на занятиях, взбирались туда, занимали место, их беспощадно сталкивали вниз, на пол, больные люди не сопротивлялись, лишь беспомощно ныли, растирая по лицу слезы и сопли.
Как водится, в бедствии, в запустении на служивых навалилась вша, повальная, беспощадная. И куриная слепота, по-ученому гемералопия, нашла служивых. По казарме, шарясь руками по стенам, бродили пугающие всех тени людей, что-то все время ищущих. В бане красноармейцев насильно мазали дурно пахнущей желтой дрянью, похожей на солидол. Станут двое дежурных по обе стороны входа в моечную с ведрами, подвешенными на шею, и кудельными мазилками, реже грязной ватой, намотанной на палку, — ляп-ляп-ляп по голове, по пугливо ужавшемуся члену, руки задрать велят, чтоб и подмышки намазать. Отлынивать начнешь либо сопротивляться — в рожу мазилкой; мази не жалко.
С утра наряд, человек двадцать, уходил пилить дрова, носить воду, готовить вехотки, тазы, но та же картина, что и в подразделениях, — половина делом занимается, половина харч промышляет.
В тот год овощехранилища двадцать первого полка ломились от картошки и всякой другой овощи. Там, в овощехранилищах, работали, перебирали плоды земные такие же орлы, что и баню топили, — за сахар, за мыло, за табак, за всякий другой провиант они насыпали картошки, брюквы, моркови, дело было за небольшим — сварить или испечь овощь. Кочегарка бани, землянки офицеров и всякие другие сооружения с очагами осаждались и использовались на всю мощь. Вот, стало быть, намажут солдатикам башки, причинные и всякие другие места, на которых волос растет, будь они прокляты, где вошь гнездится и размножается, а в бане горячей воды нет, чтобы смыть хотя бы мазут. «Мать-перемать!» — ругается помкомвзвода Яшкин, мечется, ищет виноватых старшина Шпатор.
До ночи канитель тянется. Сиди дрожи в бане нагишом, намазанный, жди — хоть чего-нибудь да нагреется, хоть немножко каменка зашикает, пар пойдет. В парилку сбивалась вся голая публика, до того продрогшая, что даже на возмущение сил и энергии не хватало, постылая казарма из той бани казалась милостивым приютом.
Непостижимыми путями, невероятной изворотливостью ума добивались молодые вояки способов избавиться от строевых занятий, добыть чего-нибудь пожевать, обуться и одеться потеплее, занять место поудобнее для спанья и отдыха. Ночью и днем на тактических и политических занятиях, при изучении оружия — винтовки образца одна тысяча восемьсот затертого года — мысль работала неутомимо.
Есть тут и привычные моменты военного быта: скудность еды и бессмысленная с точки зрения новобранцев муштра, строгость наказаний за самовольный уход из части и казенщина.
Автор удивляется, что молодых здоровых парней отрывают от сельских работ, долго маринуют в подготовительных центрах, при этом, не имея вооружения, солдаты используют лишь муляжи, а не настоящее огнестрельное оружие, поэтому толку от такой учебы мало.
Щусь смотрел еще какое-то время вослед качающемуся под желтушно светящимися фонарями, пар выдыхающему, отхаркивающемуся, не очень-то ровному и ладному строю. И снова подступала, царапала сердце ночная дума: «Ну зачем это? Зачем? Почему ребят сразу не отправили на фронт? Зачем они тут доходят, занимаются шагистикой? На стрельбище, как и прежние роты, побывают два-три раза, расстреляют по обойме патронов — не хватает боеприпасов. Копать землю многие из них умеют с детства, штыком колоть, если доведется, война научит. Зачем? Зачем здоровых парней доводить до недееспособного состояния?» Ответа Щусь не находил, не понимал, что действует машина, давняя тупая машина, не учитывающая того, что времена императора Павла давно минули, что война нынче совсем другая, что страна находится в тяжелейшем состоянии, и не усугублять бы ее беды и страдания, собраться бы с умом, сосредоточиться, перерешить многое. То, что годилось для прошлой войны или даже для войны с Наполеоном, следовало отменить, перестроить, упростить, да не упрощать же до полного абсурда, до убогости, нищеты, до полной безнравственности, ведь бойцы первой роты по одежде, да и по условиям жизни и по поведению мало чем отличаются от арестантов нынешних времен. И Попцов, да что Попцов, разве он один, разве его смерть кого образумит, научит, остановит?
Тонкий стратегический расчет тут таился: как только раздавалась команда «разобрать оружие!», у пирамиды поднималась свалка — каждый норовил схватить деревянный макет, потому как он был легок и у него не было железного затыльника на прикладе, от которого коченела ладонь и уставала рука. С меньшей охотой разбирались настоящие, отечественные винтовки, и никто не хотел вооружаться винтовками финскими, из железа и дерева сделанными. Как, для чего они попали в учебные роты — одним высокоумным военным деятелям известно.
Финские тяжеленные винтовки всегда стояли в дальнем конце пирамиды, там и оставались они после расхватухи, никто их не замечал, учено говоря, бойцы игнорировали плененное оружие. С ножевыми штыками, пилой, зазубренной по торцу, — «чтобы кишки вытаскивались, когда в брюхо кольнут, — заключали ребята и добавляли возмущенно: — Изуиты! Вон у нашего винтаря штык как штык, пырни — дак дырка аккуратна».
Тем бойцам, которые в боях сразу не погибнут и поучаствуют в рукопашной, еще предстояло узнать, что ранка от нашего четырехугольного штыка — фашисту верная смерть, заживает та рана куда как медленней, чем от всех других штыков, сотворенных человеком для человека. Остается благодарить Бога за то, что в этой войне рукопашного боя было мало, редко он случался.
Не выдали служивым ни постелей, ни пожиток, ни наглядных пособий, ни оружия, ни патронов, зато нравоучений и матюков не жалели и на строевые занятия выгнали уже на другой день с деревянными макетами винтовок, вооружив — для бравости — настоящими ружьями лишь первые две четверки в строю. И слилась песня первой роты с песнями и голосами других взводов, рот, чтобы со временем превратиться во всеобщий непрерывный вой и стон, от темна до темна звучащий над приобским широким лесом.
Старший сержант, еще месяц назад думавший, что его дурачат, издеваются над ним, с удручением смотрел теперь на этих действительно больных людей. Мокрые, пушком обросшие губы у всех отвисли, глаза склеиваются, ни думать, ни соображать не могут, дремота и слабость долят их в сон.
Яшкин привел целое отделение новичков, среди которых был уже дошедший до ручки, больной красноармеец Попцов, мочившийся под себя. По прибытии в казарму он сразу же залез на верхние нары, обосновался там, но ночью сверху потекло на спящих внизу ребят. Новопоселенца стащили вниз, напинали, сунули носом на нижний ярус — знай свое место, прудонь тут, сколько тебе захочется.
Старшина качал головой, глядя на синюшного парнишку Попцова с нехорошим отеком на лице, псиной воняющего, дрожащего от внезапной вспышки зла, от жизни, совсем его обессилившей, и выдохнул: «О Господи…»
Булдаков залез на нары, помог туда забраться Мусикову и Попцову, опершись на руки сыто лоснящейся рожей, вещал сверху:
— Сохранение здоровья и боевого духа бойца советского для грядущих боев с ненавистным врагом социализьма есть наиважнейшая задача работников советского тыла, главный политический момент на сегодняшний день.
Доходяги с мокрыми втоками испортили боевую работу. Попцов во время пробежки упал. Яшкин, вернувшись, поднял хнычущего доходягу, тащил его за ворот на плац, в боевые ряды. Попцов падал, скрючивался на снегу, убирая под себя ноги, пытался засунуть руки в рукава, утянуть ухо в воротник.
— Встать, негодяй! — рявкнул командир роты и с разгона раз-другой пнул доходягу, распаленный гневом, не мог уже остановиться, укротить яростный свой припадок. — Встать! Встать! Встать! — со всего маху понужал он узким носком каменно блестевшего сапога корчащегося на снегу парнишку, на каждый удар отзывавшегося коротким взмыкиванием, слюнявым телячьим хлюпаньем. Побагровевшее лицо ротного, глаза его налились неистовой злобой, ему не хватало воздуху, ненависть душила его, ослепляла разум, и без того от природы невеликий. — Пораспустились! Симул-лянты! — вылаивал он. — Я вам покажу! Я вам покажу! Я вам…
Так же Астафьев отмечает, что многие парни теряют здоровье, из-за постоянного голода и безделья вынуждены рыскать в поискать еды, не брезговать воровством, отниманием еды у более слабых и даже копаться в отбросах.
Возникали стычки, перекатно гремел мат, сновали воришки, больные, изможденные люди подбирали крошки, объедки со столов и под столами.
Красноармейцы сняли шлемы, рукавицы, встали на колени вдоль промоинки и увидели свое отражение в воде отчетливо, как в зеркале. Никто из парней сам себя не узнал. Из воды глядели на них осунувшиеся, чумазые лица, сплошь подернутые пушком, у всех слезились глаза, сочилось из носа, появились ранние, немощные морщины у губ и на лбу. Если к этому добавить, что на лесодобытчиках были порваны и прожжены шинеленки, размотались, съехали вниз неумело намотанные мокрые обмотки, ботинки от воды и сушки были скороблены, шлемы от соплей на застежках белые, то сделается понятно, в какое удручение впал форсистый генерал на коне, когда, умывшись, солдатики предстали перед ним, выпростав из тряпья шлемов сросшиеся с ними бледные, испитые мордахи. Один вояка выдрал из снега мерзлый капустный лист и, не успевши изжевать овощь, сжимал зеленый лоскуток в горсти, утянув его в рукав. Генерал спешился, попросил служивого показать, что это там у него. Парнишка покорно разжал ладонь с огрызком капустного листа. Генерал, разом потерявший всю свою бравую осанку, удрученно спросил:
— Зачем вы это едите? Разве вам не хватает военного пайка?
— Хватает, — потунясь, тускло прошелестел губами паренек.
— Так зачем же вы кушаете отбросы? Лист мерзлый. Вы ж простудите желудок.
— Не знаю зачем. Так.
— Бросьте. Пожалуйста, бросьте.
Служивый с сожалением разжал ладонь, уронил к ногам огрызок листа. Генерал заметил, что в тот листок уперлось сразу множество голодных глаз, еще раз оглядел неровный и неладный строй, состоящий из дрожащих от умывания холодной водой, ободранных солдат, напоминающих скорее несчастных арестантов из дореволюционного времени, так обличительно изображаемых на живописных полотнах и в кинокартинах передового советского искусства.
Создается впечатление, что большая часть героев писателя изначально не отличалась моральными принципами - это потомки уголовников и сами они или уголовники в прошлом или потенциальные преступники.
О том, что папаня, буйный пропойца, почти не выходит из тюрьмы и два старших брата хорошо обжили приенисейские этапные дали, Булдаков, разумеется, сообщать воздержался, зато уж пел он, соловьем разливался, повествуя о героическом труде на лесосплаве, начавшемся еще в отроческие годы.
О том, что сам он только призывом в армию отвертелся от тюрьмы, Булдаков тоже умолчал.
Отец у Петьки Мусикова пьяница и разбойник. Весь изрисованный наколками, блатной, буйный, он бывал дома гостем, пил, дрался, кидался на людей с ножом. Во дни коротких каникул, будучи в «отпуску», изладил он и Петьку. Двое из пяти сыновей Мусиковых пошли по дорожке отца, старший, как уже сообщалось, отбывал срок за грабеж, другой неизвестно за что и почему сидел, на всякий случай, мать говорила — «политической», сама она работала кочегаром на пекарне, привычно ждала мужа и детей из тюрьмы, привычно же собирала и развозила передачи по тюрьмам. Петька мешал ей хлопотать, отлучаться. Отродьем звали в Маньдаме семейство Мусиковых, хотя, в общем-то и целом-то, поселок и состоял из этакого вот «отродья» и еще из спецпереселенцев, все прибиваемых и прибиваемых крутой волной на здешние болотистые берега.
Среди них, конечно, попадаются и нормальные ребята - представители старообрядцев, крепко держащиеся за народную мудрость и религиозные принципы, например, таким является богатырь Коля Рындин - глуповатый, но добрый парень.
Есть и "осколки дореволюционной жизни", на примере ротного старшины Шпатора писатель показывает, что раньше было лучше - солдаты верили в Бога и были "как надо обмундированы".
Есть и пострадавшие от коллективизации и принудительного переселения элементы, например, красавчик лейтенант Щусь, который поведает свою печальную историю жизни, не забыв и псевдоподвиг под Халкин-Голом.
При этом нельзя сказать, что у Астафьева жизнь в советской армии показана как-то ужасающе трагично (если не считать момента с прибывшим пополнением из Казахстана, вагонов с замершими до смерти людьми), удивляет некая беспомощность командования, которое не может справиться с бездельниками и симулянтами, политрук лишь ведёт морализаторские беседы, старшина мучается с разгильдяем солдатом, который отказывается слезать с нар, а особист только сетует на пьяные выходки младшего лейтенанта (видимо, начитавшись Бауыржан Момышулы - За нами Москва. Записки офицера о событиях на передовой, я все время ожидала немедленного расстрела провинившегося).
Коля Рындин терпел тычки и поношения, но вот Булдаков, споткнувшись раз-другой, спинал ботинок сначала с левой ноги, затем с правой, стиснул портянки в горсти и пошел по морозу босиком. Старшина Шпатор открыл рот. Рота смешала строй, остановилась. Вулдаков удалялся.
— Э-эй! — подал голос старшина Шпатор. — Ты это, памаш, че? Простудисся…
Булдаков шел по дороге, незастегнутые кальсоны вместе с брюками сползли с живота, мели тесемками снег. Время от времени Булдаков подхватывал тряпицы, поддергивал их до живота и топал дальше.
Сделав небольшой крюк, Булдаков сравнялся со штабом полка и, шагая вдоль брусчатой ограды, рявкнул, рубя босыми ногами по стылой дороге:
Взвейся, знамя коммунизьма,
Над землей трудящих масс…
— Эй, эй, — держа старые, скореженные ботинки в руках, бежал следом старшина Шпатор, — эй, придурок! Эй, товарищ боец! Как твоя фамилия?
Булдаков продолжал рубить строевым шагом, да так с песней и удалился в глубь казарм, там бегом рванул в расположение, взлетел на верхние нары, принялся оттирать ноги сукном шинели.
...Один штабист совсем разнервничался, подозвал старшину:
— Что за комедия? Что за бардак?
— А бардак и есть! — выдохнул старшина Шпатор, указывая ботинками на бредущую из бани первую роту — оне вон утверждают, памаш, весь мир — бардак, все люди — бл.ди. И правильно, памаш! Правильно! Вы вот, — увидев, что штабист собрался читать ему мораль, — вместо лекции две пары ботинок сорок седьмого размера мне найдите, а энти себе оставьте либо полковнику
Перед великим революционным праздником наконец-то пришли специальной посылкой новые ботинки для большеразмерных бойцов. Радуясь обновке, что дитя малое, Коля Рындин примерял ботинки, притопывал, прохаживался гоголем перед товарищами. Булдакову Лехе и тут не уноровили, он ботинки с верхотуры нар зафитилил так, что они грохнули об пол. Старшина Шпатор грозился упечь симулянта на губу, и когда служивый этот, разгильдяй, снова уклонился от занятий, явился в казарму капитан Мельников, дабы устранить недоделки здешних командиров в воспитании бойца. Симулянт был стащен с уютных нар, послан в каптерку, из которой удален был хозяин — старшина Шпатор.
Мельников начал впадать в сомнение — уж не дурачит ли его этот говорун, не насмехается ли над ним?
— Придуриваетесь, да? Но я вам не старшина Шпатор, вот велю под суд вас отдать…
Булдаков поманил пальцем Мельникова, вытянул кадыкастую шею и, наплевав сырости в ухо комиссару, шепотом возвестил:
— Гром надломится, но х.р не сломится, слыхал?
Капитан Мельников отшатнулся, лихорадочно прочищая мизинцем ухо.
— Вы! Вы… что себе позволяете?
Булдаков вдруг увел глаза под лоб, зашевелил ушами, перекосоротился.
— У бар бороды не бывает! — заорал припадочным, срывистым голосом. — Я в дурдоме родился. В тюрьме крестился! Я за себя не отвечаю. Меня в больницу надо! В психи-атри-ческу-у-у!..
Капитан Мельников не помнил, как выскочил из каптерки, спрятался в комнате у дежурных, где сидел, поскорбев лицом, все слышавший старшина Шпатор.
— Может, его… может, его в новосибирский госпиталь направить… на обследование?… — отпив воды из кружки дежурных, вопросил нервным голосом Мельников.
Старшина дождался, когда дежурные подадут капитану шинель и шапку, безнадежно махнул рукою.
— Половину роты, товарищ капитан, придется направлять. Тут такие есть артисты…
Младший лейтенант Щусь, как бывалый воин, чаще других командиров выводивший взвод на занятия, скоро понял, что Булдакова ему не укротить, и нашел способ избавить себя, старшину Шпатора, помкомвзвода и народ от типа, разлагающего коллектив, — назначил в свою землянку дежурным.
Капитан Мельников удрученно молчал, щелкая пальцами, перебирал руками шапку и утратившим большевистскую страсть, угасшим голосом увещевал:
— Еще раз прошу: вы хоть среди бойцов не распространяйтесь. Вас ведь могут привлечь за антипартийную пропаганду к ответственности. Обещаете?
— Ладно. Только против Бога никто не устоит. Вы тоже. Мне вас жалко, заблудший вы человек, хотя по сердцу навроде бы добрый. Вам бы в церкву сходить, отмолить бы себя…
— Я вас прошу…
— Ладно, ладно. Обешшаю.
Умника из первой роты, дерзкого, непреклонного, прямого в суждениях, несгибаемого упрямца, вызывали в особый отдел, где он, видать, не особо-то дрейфил, и предписано было командиру батальона капитану Внукову провести со строптивым красноармейцем воспитательную беседу.
Картежники! В заведении, руководимом капитаном Дубельтом, в заведении, где Боярчик дни и ночи писал лозунги и всякие другие бумаги с призывами честно трудиться на благо Родины, не щадя жизни сражаться с ненавистным врагом, темные людишки занимались азартными играми!
Они не просто играли в карты, они обосновались в клубе капитально, понанесли котомки, варили чего-то на печи и в печи, в клубе пахло вареной картошкой, даже мясным пахло и, о Боже! — самогонкой воняло!
Самое веселое и забавное началось, когда в качестве пострадавшего стал давать показания капитан Дубельт.
— Я тебя? Ударил? Докажи, чем? — гневался Зеленцов.
Бойцы, знающие всю историю наизусть, даже с прибавлениями, замерев, ждали, как капитан с чудной фамилией — уж не немецкой ли? — будет ответствовать о том, как блатняга Зеленцов посадил его на кумпол.
— Мне кажется, он, этот негодяй, ударил меня своей головой.
— Кажется, дак крестись! — посоветовал Дубельту Зеленцов. — Стану я свою умную голову об такую поганую рожу портить!
По залу шевеление, хохоток. Зеленцов обернулся, подмигнул свойски ребятам: то ли еще будет, друзья мои, ждите и обрящете.
— Я прикажу вывести публику из зала! — стукнул по столу вдруг вспыливший председатель трибунала.
— И кого ж ты, дядя, судить будешь? Себя, че ли? — поинтересовался Зеленцов. — Суд-то показательный. Вот и показывай, если есть че.
По-видимому жизнь в тылу (пусть и призванных на службу людей) сильно отличалась от военных действий, тут нет места подвигам и самопожертвованию, солдатскому братству, что воспевал в своих книгах Ремарк, лишь утопание в грязи, голод и глупость управляющих. А может ещё сказывается сам тон Астафьева, чем-то он близок к стилю Джозефа Хеллера ( Джозеф Хеллер - Поправка-22 ): тут много ерничинья, высмеивания происходящей глупости, начиная от патриотизма неведж, которые собрались послушать речь Сталина, заканчивая выходками командования, в пьяном угаре требующего, чтобы их отправили на войну.
Голос политотдельца, чем дальше он говорил, делался увереннее, напористей, вся его беседа была так убедительна, что удивляться только оставалось — как это немцы умудрились достичь Волги, когда по всем статьям все должно быть наоборот и доблестная Красная Армия должна топтать вражеские поля, попирать и посрамлять фашистские твердыни. Недоразумение да и только! Обман зрения. Напасть. Бьем врага отчаянно! Трудимся героически! Живем патриотически! Думаем, как вождь и главнокомандующий велит! Силы несметные! Порядки строгие! Едины мы и непобедимы!.. И вот на тебе — враг на Волге, под Москвой, под Ленинградом, половину страны и армии как корова языком слизнула, кто кого домалывает — попробуй разберись без пол-литры.
Однако слушать капитана Мельникова все одно хорошо. Пусть обман, пусть наваждение, блудословие, но все ж веровать хочется. Закроешь глаза — и с помощью отца-политотдельца пространства такие покроешь, что и границу не заметишь, в чужой огород перемахнешь, в логове окажешься, и, главное дело, время битвы сокращается с каждой минутой. Что как не поспеешь в логово-то? Доблестные войска до тебя домолотят врага? Тогда ты с сожалением, конечно, но и с облегчением в сердце вернешься домой, под родную крышу, к мамке и тятьке.
Эта вот особенность нашего любимого крещеного народа: получив хоть на время хоть какую-то, пусть самую ничтожную, власть (дневального по казарме, дежурного по бане, старшего команды на работе, бригадира, десятника и, не дай Бог, тюремного надзирателя или охранника), остервенело глумиться над своим же братом, истязать его, — достигшая широкого размаха во время коллективизации, переселения и преследования крестьян, обретала все большую силу, набирала все большую практику, и ой каким потоком она еще разольется по стране, и ой что она с русским народом сделает, как исказит его нрав, остервенит его, прославленного за добродушие характера.
Начавши борьбу за создание нового человека, советское общество несколько сбилось с ориентира и с тропы, где назначено ходить существу с человеческим обликом, сокращая путь, свернуло туда, где паслась скотина. За короткое время в селекции были достигнуты невиданные результаты, узнаваемо обозначился облик советского учителя, советского врача, советского партийного работника, но наибольшего успеха передовое общество добилось в выведении породы, пасущейся на ниве советского правосудия. Здесь чем более человек был скотиноподобен, чем более безмозгл, угрюм, беспощаден характером, тем он больше годился для справедливого карательного дела.
Дыша табачищем, мать лупила сына в грудь:
— За Родину!.. За Сталина!.. Смерть врагу!.. Гони ненавистного врага! Гони и бей!.. Гони и бей…
Фекла, поджав губы, качала головой, утирала мокрое лицо концом пуховой шали, которую и надевала лишь по святым да революционным праздникам. Весь вид ее говорил: «Тронутая и есть тронутая! Че с ее возьмешь!.. Нет чтоб ребенку человеческое слово сказать, Божецкое ему напутствие сделать… Стыдно перед людям…»
Зла не помнящие, забитые российские люди — деликатности-то где же они выучились?
Дети рабочих, дети крестьян, спецпереселенцев, пролетариев, проходимцев, воров, убийц, пьяниц, не видевшие ничего человеческого, тем паче красивого в жизни, с благоговением внимали сказочкам о роскошном мире, твердо веря, что так оно, как в книгах писано, и было, да все еще где-то и есть, но им-то, детям своего времени и, как Коля Рындин утверждает, Богом проклятой страны, все это недоступно, для них жизнь по Божьему велению и правилу заказана. Строгими властями и науками завещана им вечная борьба, смертельная борьба за победу над темными силами, за светлое будущее, за кусок хлеба, за место на нарах, за… за все борьба, денно и нощно.
Говорил Сталин заторможенно, с остановками, как бы обдумывая каждое слово, взвешивая сказанное. От давней, как бы уже старческой усталости, печальны были не только голос, но и слова вождя. У людей, его слушавших, сдавливало грудь, утишало дыхание, жалко делалось вождя и все на свете, хотелось помочь ему, а чем поможешь-то? Вот и страдает, мучается за всех великий человек, воистину отец родной. Хорошие, жалостливые, благодарные слушатели были у вождя, от любого, в особенности проникновенного, слова раскисающие, готовые сердце вынуть из груди и протянуть его на ладонях: возьми, отец родной, жизнь мою, всего меня возьми ради спасения Родины, но главное, не печалься, не горюй — мы с тобою, мы за тебя умрем все до единого, только не горюй, лучше мы отгорюем за все и за всех, нам не привыкать.
Так что, подводя итог, я бы с осторожностью советовала эту книгу, так как плохо могу представить, чем может понравиться данный роман. Может он нужен для оголтелых патриотов, которые воображают, что на войне все чистые, здоровые и благородные - для таких идеалистов Виктор Петрович описал неприглядную действительность со вшами, дизентерией и дураками -командирами, но на мой вкус вышло весьма скучное повествование (поэтому не уверена, хватит ли мне самой сил для прочтения продолжения, хотя было бы интересно узнать, изменятся ли герои, попав на фронт, да и сам тон Астафьева претерпит ли изменения или так и будет разыгрываться карта "грешники, отказавшиеся от веры отцов, навлекли на себя божье наказание")

Я мама. У меня единственный сын. Ему на сегодняшний день 18 лет. Эта книга о таких же мальчишках, как мой, как его друзья. Потому всю боль героев книги, нужду, растерянность я прочувствовала всем сердцем. Разные эмоции посещали меня, когда я читала книгу. От презрения и ненависти до жалости и нежности. И это еще ребят не отправили на передовую, их, так сказать, только обучают, проводят военную подготовку, а уже тошно от происходящего. Сердце матери требует хотя бы небольшой заботы для родного любимого человечка, чтобы был здоров. Справедливости от командиров, чтобы ему было капельку легче. Но в холодных и грязных барках, куда попадают ребята во время военной подготовки, все превращаются в скотину, расходный материал. И эта скотина должна забыть об элементарных потребностях, о том, что еще не так давно у нее было что-то от человека, и обязана безропотно подчиняться, корчась от голода и холода. Молча наблюдать, как власть, обучая их правильному поведению, удерживая в лапах страха, потихоньку истребляет. Глава о братьях-близнецах Снегиревых выбила из равновесия. Без слез читать невозможно. Очень детально описывает автор это происшествие. Одежда, внешность, окружающая обстановка, движения - все слилось в яркий образ, который невозможно забыть и вытравить из памяти.
Вспоминаю свое детство, школу, помню, что никогда книги о войне не внушали отвращение и ужас. Не заставляли по-настоящему задуматься, что представляет собой война. Точно так же и фильмы. Да, война это плохо, но всегда красиво. Там герои, сила, мощь, честь и доблесть! Дедушка мой воевал и был ранен во время войны, его братья были военными летчиками, но он никогда никому о войне не рассказал. Никогда и никому из родных. Потом пришел из Афганистана мой дядя. И он тоже никогда и никому не рассказал о том, что видел там, на войне, но изменился страшно. Веселый паренек, которому я отправляла рисунки в письмах, превратился в молчаливого и нервного мужика, который всегда натянут, как пружина, готовая в любой момент сорваться. Я начала задумываться, почему так? Почему в советских книгах и кино люди не похожи на тех людей, которых я вижу вокруг себя? Почему мои родные не рассказали и не рассказывают такие же героические истории, на которых я выросла. Для меня это стало другой реальностью, в которую я не могла проникнуть. И со временем я сама выбрала, как относиться к войне, как относиться к тому, что войну сделали культом. Победой бравируют, угрожая повторить, всем, кто не нравится.
То, во что превратили войну в современном мире, это чудовищно. Если обнажить всё уродство войны, можно ли наряжать детей в военную форму? Не выглядит ли это кощунством? Можно грохотать танками и другой военной техникой по улицам городов, техникой которая приносит разрушения и смерть? Нужно бравировать силой и мощью? Дни памяти превратили в шоу, где скачут девицы в военном форме, задирая ноги и сверкая трусами. А для отдельных личностей это лишний повод напиться и набить кому-нибудь морду. Не лучше ли показать детям, во что превращаются города после этих самых танков и орудий? Показать, во что превращаются люди после бомбежек и обстрелов. Захотят ли дети после этого стать теми, кто разрушает, истребляет, калечит, разрывая на куски. Теми, кто превращает цветущий мир в кровь, грязь, вонь разложения, руины. Красиво, как в книгах, не будет. Будет так, как пишет Виктор Астафьев в своем романе. Жестко, грязно, отвратительно. С массой физических неприглядностей, которые в диком танце сливаются не только с геройством, но и массой человеческих пороков. Война не может быть красивой ни при каких условиях. Все мы люди с недостатками, кто-то трус, кто-то скупой, кто-то вор, кто-то обманщик, в ком-то живет зверь и насильник - и все эти качества увеличиваются в размерах в критической ситуации. Войны нужно бояться, чтобы никогда не повторить. И в книгах она должна быть страшной. Я поверила Виктору Петровичу, совпала реальность, которую я для себя нарисовала, и стало объяснимым молчание моих родных.
Я не поверила, в то, что автор не любит свой народ, как пишут некоторые читатели в рецензиях. Он любит простых ребят о которых пишет, но ненавидит советскую власть. И я не понимаю, за что он должен её любить. И вообще, мне не понятно, как можно любить власть. Можно отчаянно любить родную землю, людей, не связывая её с властью, для которой каждый человек, его жизнь и здоровье, никогда не были ценными, ни тогда, ни сегодня.

Я больше тридцати лет не читала книг о войне и не смотрела фильмов, не вспоминала прочитанного, увиденного и услышанного от дедушек - просто пряталась от страданий. Но в последние годы стали назревать во мне непонимание и протест. Протест против какого-то примитивного, приукрашенного, бравурного изображения Великой Отечественной войны, против замалчивания жестокости и репрессий против собственных граждан в те страшные годы. Но самый ярый протест вызывают у меня многочисленные комментарии как минимум некомпетентных и наивных людей к произведениям, в которых мелькает хотя бы тень правды, хотя бы намек на "антисоветчину". Пример - эта гениальная книга, и фрагмент одного из комментариев: "От книги ощущение, как будто в дерьмо наступил. Столько ненависти к своему народу..." Эти комментарии пишут люди, которые читают и слушают книги, то есть, их нельзя назвать невеждами. Значит, они не хотят, чтобы их пробудили от их розовых иллюзий? Или они просто не в состоянии... Ладно, не буду, я не о них хотела говорить.
Это третья подряд книга о войне, которую я прослушала. Слушая книги о войне, я хочу понять, как правильно относиться к памяти о войне и к формам празднования дня Победы. Я убеждена: мы должны читать эти книги, чтобы понимать, что победили ВОПРЕКИ так многому, чтобы понимать, что такое подлость, и бояться быть подлыми. Под подлостью я не подразумеваю предателей или тех, кто уклонялся, как мог, от военной службы. Человек слаб, он может бояться боли, он может быть просто не в состоянии воевать, ему может не хватать лихости или глупости, чтобы рваться в бой. Подлость, это когда расстреливают восемнадцатилетних мальчишек за то, что они, не понимая толком, что творят, смотались из учебной части домой на несколько дней. Мама написала: отелилась коровка, приезжайте, сынки, попить молочка. Они и рванули. Голодные, измученные, завшивленые отогрелись, отмылись, отъелись и вернулись с калачами и молоком для сослуживцев, доходяг. И до последней секунды не верили, что за это их… Это одна из историй, рассказанных в книге, одна из многих. Это сильная, правдивая и мужественная книга, которая открывает происходившее с разных сторон. Астафьев был уже не молод, когда писал ее. Сила духа и стремление донести истину в этой книге. Он знал, как примут её, он сказал об этом в послесловии. Но написал все, как было. Хорошо, что успел. А я уже не успела расспросить своих дедушек…

Предательство начинается в высоких, важных кабинетах вождей, президентов – они предают миллионы людей, посылая их на смерть, и заканчивается здесь, на обрыве оврага, где фронтовики подставляют друг друга. Давно уже нет того поединка, когда глава государства брал копье, щит и впереди своего народа шел в бой, конечно же, за свободу, за независимость, за правое дело. Вместо честного поединка творится коварная надуваловка.

Изо всех спекуляций самая доступная и оттого самая распространенная - спекуляция патриотизмом, бойчее всего рапродается любовь к родине - во все времена товар этот нарасхват.

Книга первая. Чертова яма
Покорность судьбе овладела им. Сам по себе он уже ничего не значит, себе не принадлежит — есть дела и вещи важней и выше его махонькой персоны. Есть буря, есть поток, в которые он вовлечен, и шагать ему, и петь, и воевать, может, и умереть на фронте придется вместе с этой все захлестнувшей усталой массой, изрыгающей песню-заклинание, призывающей на смертный бой одной мощной грудью страны, над которой морозно, сумрачно навис морок. Где, когда, как выйдешь из него один-то? Только строем, только рекой, половодьем возможно прорваться к краю света, к какой-то совсем иной жизни, наполненной тем смыслом и делом, что сейчас вот непригодны да и неважны, но ради которой веки вечные жертвовали собой и умирали люди по всей большой земле.
Душу Лешки посетило то, что должно поселяться в казарме и в тюрьме, — вялое согласие со всем происходящим.
Фронту, как карантинной печке дрова, требовались непрерывные пополнения, чтобы поддерживать хоть какой-то живой огонь.
Казарма есть казарма, тем более казарма советская, тем более военной поры, — это тебе не дом отдыха с его излишествами и предметами для интересного досуга. Тем более это не генеральские апартаменты — здесь все сурово, все на уровне современной пещеры, следовательно, и пещерной жизни, пещерного быта.
Лешка по голосу узнал Бабенко, подтянул ему, не ведая еще, что долго он теперь в этом месте, в этой яме, называемой и без того презренным словом «казарма», никаких песен не услышит.
Весь мир — бардак, все люди — бляди.
В казарме жизнь как таковая обезличивается: человек, выполняющий обезличенные обязанности, делающий обезличенный, почти не имеющий смысла и пользы труд, сам становится безликим, этаким истуканом, давно и незамысловато кем-то вылепленным, и жизнь его превращается в серую пылинку, вращающуюся в таком же сером, густом облаке пыли.
Как наши войска взяли инициативу в свои руки и прошли четыреста верст, слушать было приятно, но вот как немцы взяли инициативу в свои руки и прошли пятьсот верст — хотелось пропустить.
Хороший старшина, говаривали бывалые бойцы, в службе важней и полезней любого генерала. Важнее не важнее, но ближе, это уж точно.
Да чего же скажешь-то, как утешишь и утишишь горе, коли его так много кругом. Пусть Главный Утешитель этим займется, он Его попросит: «Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и да бежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, яко тает воск от лица огня, тако да погибнут беси…» — на этом месте Коля Рындин глубоко и умиротворенно уснул, совершенно уверенный, что Бог услышал его и успокоит горе русского человека Васи Шевелева. Но тот все плакал и плакал, один, втихомолку, никому не досаждая и не жалуясь.
Все, что хорошо начинается, непременно и очень скоро худо кончается — такая вот древняя хилая истина существует средь народа.
Эта вот особенность нашего любимого крещеного народа: получив хоть на время хоть какую-то, пусть самую ничтожную, власть (дневального по казарме, дежурного по бане, старшего команды на работе, бригадира, десятника и, не дай Бог, тюремного надзирателя или охранника), остервенело глумиться над своим же братом, истязать его, — достигшая широкого размаха во время коллективизации, переселения и преследования крестьян, обретала все большую силу, набирала все большую практику, и ой каким потоком она еще разольется по стране, и ой что она с русским народом сделает, как исказит его нрав, остервенит его, прославленного за добродушие характера.
— Молитвы составляли лучшие умы и поэты земли, — втесался в разговор Васконян, — поэтому они достигают сердца…
Еще не познали солдаты наяву, что такое отступление и паника, но вели себя в лесу точно так же, как на войне во время массового драпа.
Бедственное время страшно еще тем, что оно не только угнетает — оно деморализует людей.
Все налаживалось, строилось и чинилось на ходу. К исходу сорок второго года кое-что и кое-где и было налажено, залатано, подшито и подбрито, перенесено на новое место и даже построено, однако всевечное российское разгильдяйство, надежда на авось, воровство, попустительство, помноженное на армейскую жестокость и хамство, делали свое дело — молодяжки восемнадцати годов от роду не выдерживали натиска тяжкого времени и требований армейской жизни.
Побагровевшее лицо ротного, глаза его налились неистовой злобой, ему не хватало воздуху, ненависть душила его, ослепляла разум, и без того от природы невеликий.
Раз и навсегда усвоивший, что он, командир, начальник, может повелевать людьми, но им повелевать никто не смеет, кроме старшего по званию, если нападать, то он вправе нападать, на него же нельзя.
Все, кто сеет на земле смуту, войны и братоубийство, будут Богом прокляты и убиты.
Когда и как прорвались наши войска, вывезли раненых, выручили бедных девчонок, Яшкин уже не помнил. Ныне он чувствовал: скоро, совсем скоро предстоит ему снова туда, в пекло. И он не то чтобы боялся этого пекла, он примирился с судьбой, понимая всю неизбежность с ним происходящего — ему не словчить, не зацепиться по состоянию здоровья в тылу. С его прямотой в отношениях с людьми, неуживчивым характером, при полном неумении подхалимничать, пресмыкаться самое подходящее ему место там, на передовой, где все же есть справедливость, пусть одна — разъединственная, но уж зато самая высшая справедливость, — равенство перед смертью.
Самое интересное, что над казармой и над деревней родной те же звезды, та же луна светит, но жизнь совершенно другая и по-другому идет.
Начавши борьбу за создание нового человека, советское общество несколько сбилось с ориентира и с тропы, где назначено ходить существу с человеческим обликом, сокращая путь, свернуло туда, где паслась скотина. За короткое время в селекции были достигнуты невиданные результаты, узнаваемо обозначился облик советского учителя, советского врача, советского партийного работника, но наибольшего успеха передовое общество добилось в выведении породы, пасущейся на ниве советского правосудия. Здесь чем более человек был скотиноподобен, чем более безмозгл, угрюм, беспощаден характером, тем он больше годился для справедливого карательного дела.
Было благоговейно тихо, даже таинственно. Лешка начинал постигать в ту минуту высокий смысл естественной жизни — весь он, этот смысл, состоит в ожидании таких вот встреч, есть в ней, в жизни, незыблемо-вечное, и все может сотворить только женщина. Счастье, добро — все, все на свете в ее жертвенности, в ее разумности, приветной нежности.
Тело, оно, как и составная его часть — брюхо, добра не помнит, однако в памяти, в уголке том дальнем таилось сделавшееся частью его воспоминание, и суждено ему было сохраниться навсегда. Но для того, чтобы до конца это осознать, понадобится нахлебаться досыта грязи, испытать гнетущий груз одиночества, походить под смертью, чтоб после наверняка уж себе сказать: у мужчины бывает только одна женщина, потом все остальные, и от того, какая она будет, первая, зависит вся последующая мужичья судьба, наполненность души его, свойства характера, отношение к миру, к другим людям, и прежде всего к другим женщинам, среди которых есть мать, подарившая ему жизнь, и женщина, давшая познать чувство бесконечности жизни, тайное, сладостное наслаждение ею.
В этой большой могиле, беспечно именуемой Чертовой ямой, запросто пропадешь.
Всему свой срок и время всякому делу под небесами, время не только собирать и разбрасывать камни, но и время сеять и собирать зерна!
Чутко, как и всякая кормящая мать, спавшая и чего-то напряженно ждавшая молодая хозяйка, разочарованно вздыхала, постепенно доходя умом, что такому увлеченному читателю все мирское ни к чему, баловство всякое тем более, и надо как-то вытеснять книгочея из барачной комнаты, а заселить сюда пусть и малограмотного, отсталого, но практически подкованного, строевого бойца.
Творя хлебное поле, человек сотворил самого себя.
Тот, кто не бывал в огне, не бежал от огня, пожирающего хлеб, настоящего страха не знал.
— Что в народе, то в природе — едят друг дружку все.
Русские люди, как обнажено и незлопамятно ваше сердце! Можно рукой потрогать его под полушубком, услышать ладонью его тревожный стук, его доверчивое тепло почувствовать.
Книга вторая. Плацдарм
У войны свой счет делам, годам и дням.
«Ум даден для того, чтобы облегчить жизнь и путь человеческий на земле. Умный может и должен оставаться братом слабому. Власть всегда бессердечна, всегда предательски постыдна, всегда безнравственна, а в этой армии к тому же командиры почти сплошь хохлы, вечные служаки, подпевалы и хамы…»
В реке побулькавшимся, отдохнувшим людям не спалось, собирались вместе — покурить, тихо, не тревожа ночь, беседовали о том, о сем, но больше молчали, глядя в небеса, в ту невозмутимо мерцающую звездами высь, где все было на месте, как сотню и тысячу лет назад. И будет на месте еще тысячи и тысячи лет, будет и тогда, когда отлетит живой дух с земли и память человеческая иссякнет, затеряется в пространствах мироздания.
Люди на войне не только работали, бились с врагом и умирали в боях, они тут жили собственной фронтовой жизнью, той жизнью, в которую их погрузила судьба, и, говоря философски, ничто человеческое человеку не чуждо и здесь, на краю земного существования, в этом, вроде бы безликом, на смерть идущем, сером скопище. Но серое скопище, в одинаковой одежде, с одинаковой жизнью и целью, однородно до тех пор, пока не вступишь с ним в близкое соприкосновение. В бою начинает выявляться характер и облик каждого отдельного человека. Здесь, здесь, в огне, под пулями, где сам человек спасает себя от смерти, борется, хитрит, ловчится, чтобы остаться живым, уничтожая другого человека, так называемого врага, все и выступает наружу: «Война и тайга — самая верная проверка человеку», — говорят однополчане-сибиряки.
Оставаясь на левом, безопасном берегу, он вынужден читать мораль тем, кто пойдет на вражеский берег, почти на верную смерть, он же вынужден талдычить слова, давно утратившие всякую нужность, может, и здравый смысл: «Не посрамить чести советского воина», «До последней капли крови», «За нами Родина», «Товарищ Сталин надеется» — и тому подобный привычный пустобрех перед людьми, тоже давно и хорошо понимающими, что это — брех, пустозвонство, но принужденными слушать его.
Парой на войне легче выжить, и ранят тебя если — напарник не бросит.
Как же надо затуманиться человеческому разуму, как оржаветь живому сердцу, чтобы настроилось оно только на черные, мстительные дела, ведь их же, страшные и темные дела, великие грехи, надо будет потом отмаливать, просить Господа простить за них. В прежние, стародавние времена, после битв, пусть и победных, генералы и солдаты, став на колени, молились, просили Господа простить их за кровопролитие. Или забыт Бог на время, хотя и написано на каждой железной пряжке немца: «С нами Бог», — но пряжка та на брюхе, голова — выше.
Но как бы люди русские ни напрягали свое воображение, какие бы вещие сны ни посетили их, ни в каком, даже самом страшном, бредовом сне не увидеть им того, что происходит сейчас вот на этом, в пределах земных мизерном клочочке земли. Никакая фантазия, никакая книга, никакая кинолента, никакое полотно не передадут того ужаса, какой испытывают брошенные в реку, под огонь, в смерч, в дым, в смрад, в гибельное безумие, по сравнению с которым библейская геенна огненная выглядит детской сказкой со сказочной жутью, от которой можно закрыться тулупом, залезть за печную трубу, зажмуриться, зажать уши.
Чувство мерзопакостности, оно ж, как грузило на проводе, гнетет, вниз тащит, давит глубиной бездонной память и гнет — это на всю жизнь.
Такого света, цвета, таких запахов в земной природе не существовало. Угарной, удушающей вонью порченого чеснока, вяжущей слюну окалины, барачной выгребной ямы, прелых водорослей, пресной тины и грязи, желтой перхоти ядовитых цветков, пропащих грибов, блевотной слизи пахло в этом месте сейчас, а над ядовитой смесью, над всей этой смертной мглой властвовал приторно-сладковатый запах горелого мяса. Все, все самое отвратительное, тошнотное, для дыхания вредное, комом кружилось над берегом, отныне именуемым плацдармом, над и без того для жизни и существования мало пригодным клочком земли, сплошь изрытым воронками.
Казалось, в больном, усталом сне рот наполнился толстым жирным волосом и чем дальше тянешь, тем он длиннее и гуще возникает из нутра, объятого тошнотной мутью.
Перед ним мелькало, в основном, два цвета: белый — больничный, да алый — кровавый с улицы.
Да и зачем разубеждать человека, который себе-то не каждый день верит.
Беду не надо кликать, она сама тебя найдет…
Без командира на войне, как в глухой тайге без проводника, — одиноко, заблудно.
Что тут мог значить один упокоенный солдатик? Он-то уже не знает — похоронен, прибран ли — ничего не чувствует, не ведает, не боится.
— Этот человек без особых претензий к миру — водка, баба, конвой помилосердней. У меня же одна забота: скорее бы умереть.
Мой товарищ, в смертельной агонии
Не зови понапрасну друзей.
Дай-ка лучше согрею ладони я
Над дымящейся кровью твоей.
Ты не плачь, не стони, ты не маленький,
Ты не ранен, ты просто убит.
Дай на память сниму с тебя валенки,
Нам еще наступать предстоит…
В героической советской стране передовые идеи и машины всегда ценились дороже человеческой жизни. Ежели советский человек, погибая, выручал технику из полымя, из ямы, из воды, предотвращал крушение на железной дороге — о нем слагались стихи, распевались песни, снимались фильмы. А ежели, спасая технику, человек погибал — его карточку печатали в газетах, заставляли детей, но лучше отца и мать высказываться в том духе, что их сын или дочь для того и росли, чтоб везде и всюду проявлять героизм, мужеством своим и жизнью укреплять могущество советской индустрии — его и на кине так показывают: отвалилось колесо — без колеса едет, провалится мост — он по сваям шпарит, да еще с песней: «Как один человек, весь советский народ…»
— Если обуви не дали, значит, выдадут медали.
Попади на место нашего летчика немец, наши поступили бы точно так же, потому как на этот случай нет тут ни немца, ни турка, ни русского; болезненно-азартная психопатия — доклевывать подранка в крови у всякой земной твари, даже у веселых, вроде бы невинных пташек, а уж тварь под названием человек — где же обойдется без зверского порока. Добить, дотерзать, допичкать, додавить защиты лишенного брата своего — это ли не удовольствие, это ли не наслаждение — добей, дотопчи — и кайся, замаливай грех — такой услаждающий корм для души. Века проходят, а обычай сей существует на земле средь чад Божьих.
Человек придумал тыщи способов забываться и забывать о смерти, но, хитря, обманывая ближнего своего, обирая его, мучая, сам он, сам, несчастный, приближал вот эти минуты, подготавливал это место встречи со смертью, тихо надеясь, что она о нем, может, запамятует, не заметит, минет его, ведь он такой маленький и грехи его тоже маленькие, и если он получит жизнь во искупление грехов этих, он зауважает законы людские, людское братство. Но отсюда, с этого вот гибельного места, из-под огня и пуль до братства слишком далеко, не достать, милости не домолиться, потому как и молиться некому, да и не умеют. Вперед, вперед к облачно плавающим, рыже светящимся земляным валам — там незатухающими свечами, пляшущим и плюющим в лицо пламенем — означен путь в преисподнюю, а раз так, значит, в бога, в мать, во всех святителей-крестителей, а-а-а-а-о-о-о-о — и-ии-и-и-и-и-и-ы-ы-ы-ы-аа-а-а — ду-ду-ду-ду… и еще, и еще что-то, мокрой, грязной дырой рта изрыгаемое, никакому зверю неведомое, лишь бы выхаркнуть горькую, кислую золу, оставшуюся от себя, сгоревшего в прах, даже страх и тот сгорел или провалился, осел внутри, в кишки, в сердце, исходящее последним дыхом. Оно, сердце, ставшее в теле человека всем, все в нем объявшее, еще двигалось и двигало, несло его куда-то. Все сокрушающее зло, безумие и страх, глушимые ревом и матом, складно-грязным, проклятым матом, заменившим слова, разум, память, гонят человека неведомо куда, и только сердце, маленькое и ни в чем не виноватое, честно работающее человеческое сердце, еще слышит, еще внимает жизни, оно еще способно болеть и страдать, еще не разорвалось, не лопнуло, оно пока вмещает в себя весь мир, все бури его и потрясения — какой дивный, какой могучий, какой необходимый инструмент вложил Господь в человека!
Военный человек на войне не только воюет, выполняет, так сказать, свое назначение, он здесь живет. Работает и живет. Конечно же, жизнь на передовой и жизнью можно назвать лишь с натяжкой, искажая всякий здравый смысл, но это все равно жизнь, временная, убогая, для нормального человека неприемлемая, нормальный человек называет ее словом обтекаемым, затуманивающим истинный смысл, — существование.
Искажаясь, жизнь прежде всего исказила сознание человека, и внутреннее его убожество не могло не коснуться и внешнего облика Божьего создания. Остались при своем звери, птицы, рыбы, насекомые, они все почти в том одеянии, в которое их Создатель снарядил в жизнь. Но что стало с человеком! Каких только не изобрел он одежд, чтобы прикрыть свое убожество, грешное, похотливое тело и предметы размножения. И более всего изощрений было в той части человеческого существа, где царило и царить не перестало насилие, угнетение, бесправие, рабство, — в военной среде. Во что только не рядилось чванливое воинство, какие причудливые покрывала оно на себя и на солдата — вчерашнего крестьянина-лапотника — не пялило, чтоб только выщелк был, чтоб только убийца, мясник, братоистребитель выглядел красиво или, как современники-словотворцы глаголят, — достойно, а спесивые вельможи — респектабельно. Да-да, слова «достойно», «достоинство», «честь» — самые распространенные, самые эксплуатируемые среди военных, допрежь всего самых оголтелых — советских и немецких — тут военные молодцы ничего уже, никаких слов, никакого фанфаронства не стеснялись, потому как никто не перечил. Оскудение ума и быта не могло не привести и привело, наконец, к упрощению человеческой морали, бытования ее. И вот уж новая модель человеческих отношений: один человек с ружьем охраняет другого: тот, что с ружьем, идет за тем, что с плугом, — проще некуда — раб и господин, давно опробовано, в веках испытано, и как тут ни крути, как ни изощряйся, какие самые передовые, научные обоснования ни подводи под эти справедливые отношения или, как боец Булдаков выражается, — как ни подтягивай муде к бороде — все то же словоблудство, все та же непобедимая мораль: «голый голого дерет и кричит: рубашку не порви!»
Упрощая жизнь, неизбежно упрощаясь в ней, человек не мог не упроститься и во всем остальном: одеяния его в массе своей уже близки к пещерным удобствам. И вот здесь-то, на очередном витке жизни, раб и господин почти сравнялись, чтоб равноправие все же не низвело господина до раба, заключенного до охранника, солдата до командира — придуманы меты или, как их важно и умело поименовали в армии, — знаки различия. Скотину и ту метят горячим тавром, но как же человеку без знаков различия? И чтобы этакого вот равноправия достичь, надо было из века в век лупить друг друга, шагать в кандалах, быть прикованным к веслу на галере, лезть в петлю, жить в казематах, сгорать от чахотки в рудниках, корчиться на кострах, ютиться на колу, сходить с ума в каменных одиночках? Конечно, странно было бы видеть на этой войне, на этом вот клочке земли людей в позументах, эполетах, в киверах, в пышных шляпах, в цветных панталонах, в шелковых мушкетерских сорочках с кружевными рукавами и с жабо на на шее. Но не странно ли видеть существо с человеческим обличьем, валяющееся на земле в убогом прикрытии, в военной хламиде цвета той же земли, точнее, по рту ложка, по Еремке шапка, по этой войне и одежка. Нищие духом неизбежно должны были обрядить паству в нищенскую лопотину, шли, шли, шли, думали, думали, думали, изобретали, изобретали, изобретали, готовили, готовили, готовили, пряли, пряли, пряли, кроили, кроили, кроили, шили, шили, шили — и вышла рубаха почему-то без кармана, совершенно необходимого солдату, и сам солдат на передовой, в боевой обстановке спарывает налокотник, прорезает на груди рубахи щель, вшивает мешочек из лоскута, отрезанного от портянки, — и без того безобразная, та жухлой травы или прелого назьма рубаха делалась еще безобразней, быстро пропадала на локтях без налокотников, кто зашьет рваный рукав, кто так, с торчащими из рубахи костьми и воюет. Но самое распаскудное, самое к носке непригодное, зато в изготовлении легкое — это галифе, пилотка и обмотки. Про обмотки, узнав, что их придумал какой-то австрияк, все тот же воин Алеха Булдаков говорил, что как только дойдет до Австрии, доберется до нее, найдет могилу того изобретателя и в знак благодарности накладет на нее большую кучу! Еще большую кучу надо класть на творца галифе. Шьют штаны с каким-то матерчатым флюсом, и флюс этот затем только и надобен, чтобы пыль собирать, чтоб вши в этом ответвлении удобно было скапливаться для массового наступления. А пилотка? Головной убор уже через неделю превращается в капустный лист! И это вот тоже заграничное изделие да на русскую-то голову!
Пришлось нырять. Тут вспомнилось: кто-то совсем недавно, а-а, док-доктор из штрафной говорил, будто утопшие еще долго, час, а может и полтора, ползают, шарятся по дну реки, сонно подпрыгивают — сокращаются мышцы остывающего тела. Он представил, как сейчас под ним, раскидывая руки в немой русалочьей воде, ходят по дну, сталкиваются лбами, не узнавая друг друга, Яков с Ягором, — и поскорее выбился наверх.
Чем дольше существовали на плацдарме люди, тем длиннее для них делались дни и короче ночи. Если им дальше облегчения не будет, не схлынет постоянно ломающая спину тяжесть — не выдержать людям.
Вони от человека больше, чем от дохлой кобылы…
Как жили люди, как умерли, так и лежали — всяк по себе, наврозь.
война, страшная своей бессмысленностью и бесполезностью, подленькое на ней усердие — это преступная трата души, главного богатства человека, как и трата богатства земного, назначенного помогать человеку жить и делаться разумней. Ведь вместе с человеком погибает, уходит, бесследно исчезает в безвестности все, чем наделила его природа и Создатель. Исчезает защитник, деятель, труженик земли, и никогда-никогда, ни в ком он больше не повторится, и спасенный им мир, люди всей земли, им спасенные, не могут заменить его на земле, искупить свою вину перед ним смирением и доброй памятью. Да они и не хотят, да и не могут это сделать. Главное губительное воздействие войны в том, что вплотную, воочию подступившая массовая смерть становится обыденным явлением и порождает покорное согласие с нею.
Человек в смерти неприглядней всех земных существ. Наделенный мыслью, словом, умением прикрыть наготу, способный скрывать совесть, страх, наловчившийся прятаться от смерти посредством хитрого ума, искаженного слова, земных сооружений, вообразивший, что он способен сразить любого врага и обмануть самого Господа Бога, настигнутый неумолимой смертью человек теряет сразу все и прежде всего теряет он богоданный облик.
На передовой отношение к храбрости, как и к любой слабости, — терпеливое, потому что каждый из фронтовиков может испугаться или проявить храбрость — в зависимости от обстоятельств, от того, насколько он устал, износился.
Изо всех спекуляций самая доступная и оттого самая распространенная — спекуляция патриотизмом, бойчее всего распродается любовь к родине — во все времена товар этот нарасхват. И никому в голову не приходит, что уже только одна замашка — походя трепать имя родины, употребление не к делу: „Я и Родина!“ — пагубна, от нее оказалось недалеко: „Я и мир“».
«Любовь? Ну что любовь? У меня вон Анциферов гаубицу любит не меньше, чем свою невесту. Что ты на это скажешь? Для военного человека, распоряжающегося подчиненными, самому в подчинении пребывающему, готовому выполнять порученное дело, значит, воевать, значит, убивать, понятие „любовь“ в ее, так сказать, распространенном историческом смысле не совсем логично. Когда военные, бия себя в грудь, клянутся в любви к людям, я считаю слова их привычной, но отнюдь не невинной ложью. Невинной лжи вообще не бывает. Ложь всегда преднамеренна, за нею всегда что-то скрывается. Чаще всего это что-то — правда. „Нигде столь не врут, как на войне и на охоте“, — гласит русская пословица, и никто-так не искажает понятия любви и правды, как военные. Я не люблю, я жалею людей, — страдают люди, им голодно, устали они — мне их жалко. И меня, я вижу, жалеют люди. Не любят, нет — за что же любить-то им человека, посылающего их на смерть? Может, сейчас на плацдарме, на краю жизни, эта жалость нужнее и ценнее притворной любви. Ты вот, давний друг мой, говорил, любишь меня, но ни разу не позвонил, не спросил, как я тут? Знаешь, что я ранен, но внушаешь себе — неопасно, раз не бегу в тыл. Нет в тебе жалости, друг мой генерал, нет, а без нее, извини, не очень-то близко я тебя чувствую, во всяком разе в сердце тебя нет. Спекуляцию же на любви к родине оставь Мусенку — слово Родина ему необходимо, как половая тряпка, — грязь вытирать. Есть у меня дочь Ксюша. Я ее зову Мурашкой. И Наталья есть. Пусть они к тебе ушли, все равно есть. Вот их я люблю. Вот они — моя родина и есть. Так как земля наша заселена людьми, нашими матерями, женами, всеми теми, которых любим мы, стало быть, их прежде всего и защищаем. Они и есть имя всеобщее — народ, за ним уж что-то великое, на что и глядеть-то, как на солнце, во все глаза невозможно. А ведь и она, и понятия о ней у всех свои — Родина!»
— У хохла да у жида одалживаться — худая примета,
«Был бы Коля Рындин, хоть молитву бы почитал, — вздохнул Шестаков, — а так че? Жил Васконян — и нету Васконяна. Это сколько же он учился, сколько знал, и все его знания, ум его весь, доброта, честность поместились в ямке, которая скоро потеряется, хотя и воткнули в нее ребята черенок обломанной лопаты…»
Вспомнилось поверье, будто каждая звезда отмечает отлетающую душу — и он, в который уже раз, угрюмо отметил, что человеческие поверья и приметы создавались в мире для мира, и потому здесь, на войне, совсем они не совпадают и не годятся, ведь если б каждая звезда отмечала души убиенных только за последний месяц, только на ближнем озоре, то небо над головою опустошилось бы, и было бы это уже не небо, на его месте темнела б мертвая, беспросветная немота.
Надо посоветовать родителям прочесть стих Константина Симонова о современной женщине и попросить их не забывать, что Бог велел всех прощать и прежде всего заблудшую женщину. Он расскажет родителям про то, как в окопах стираются грани между добром и злом. Зло делается большое-большое — аж до горизонта, добра же совсем-совсем маленько, зеленая поляночка среди выжженного леса — но, чтобы ожил лес, полянку ту надо беречь, ой, как беречь — с нее начнется возрождение всей тайги.
Беда не ходит в одиночку, беда, как вода, откуда и когда хлынет — не угадаешь.
—... Справедливость, конечно, понятие растяжимое и представление о ней туманное. Гитлер вон со своим рейхом справедливость отстаивает и свободу. Мы — то же самое — справедливость справедливую защищаем и свободу… лучшую в мире.
«Судьба того никогда не оставляет, кто тверд и решителен в предприятиях своих».
«Счастье — не пирог, дожидаться нечего…».
Нет хуже ощущения, что каждый клок земли под ногами ненадежен, да еще и небо гудит, сорит бомбами, сыплет воющие мины, бьет из пулеметов.
Народ любит гриба белого, а командир — солдата смелого.
— Ничего, обер, не мы войнами правим, война нами правит.
Русские отчего-то очень любят дураков, жалостливо к ним относятся, сами дураки, что-ли?
Совесть — лишний, обременительный груз на войне.
Слишком это глубокая штука — душа, поэтому в бою никто о ней не заботится. Заботятся лишь о шкуре — она ближе и дороже.
Предательство начинается в высоких, важных кабинетах вождей, президентов — они предают миллионы людей, посылая их на смерть, и заканчивается здесь, на обрыве оврага, где фронтовики подставляют друг друга. Давно уже нет того поединка, когда глава государства брал копье, щит и впереди своего народа шел в бой, конечно же, за свободу, за независимость, за правое дело. Вместо честного поединка творится коварная надуваловка.
В глуби его глаз беспросветная темь — такое уж волчье одиночество во всем его облике, что вот-вот завоет и ты ему подвоешь.
«Умру я, видать, скоро», — подумалось ему безо всякого страха, как о чем-то неизбежном и даже необходимом. Он знал, отлично знал: безразличие к себе, к смерти, ко всему, что происходит вокруг, — это медленно входящее в душу: «Хоть бы уж скорей убило…» — начиналось у него где-то на десятый день непрерывного пребывания в боях. На плацдарме хватило и недели, пятнадцать-двадцать минут в сутки сна-обморока, избавляющего человека от потери рассудка, но не снимающего усталости, — и вот человек готов в покойники. Добровольно, сам, махнувши на свою жизнь рукой, плохо чувствуя себя в миру, готов он расстаться с душой и телом. Тыловики работали тяжелее, надсаживались, надрывались до смерти, но все же они не знали того изнуряющего, непрерывного напряжения, которое приводило человека к тупому равнодушию, когда смерть кажется избавлением от непосильных тягот окопной жизни, если можно назвать это жизнью.
Господь, говорил мудрый Коля Рындин, сотворив свет, оставил кусочек тьмы, чтобы укрыть ею людские грехи, но грехов тяжких так много, что хоть вовсе не светай, не укрыться человеку от поганства и зверства никакой тьмой, не отмолить никакой молитвой…
Пахнет грешный человек пуще всякой скотины, потому что жрет всякую всячину. Хуже это всякой липучей болезни. О чем бы ты ни старался думать, как бы ни увиливал, мысль обязательно повернется к еде.
«Указчику — говна за щеку!».
Боже Милостивый! Зачем Ты дал неразумному существу в руки такую страшную силу? Зачем Ты прежде, чем созреет и окрепнет его разум, сунул ему в руки огонь? Зачем Ты наделил его такой волей, что превыше его смирения? Зачем Ты научил его убивать, но не дал возможности воскресать, чтоб он мог дивиться плодам безумия своего? Сюда его, стервеца, в одном лице сюда и царя, и холопа — пусть послушает музыку, достойную его гения. Гони в этот ад впереди тех, кто, злоупотребляя данным ему разумом, придумал все это, изобрел, сотворил. Нет, не в одном лице, а стадом, стадом: и царей, и королей, и вождей — на десять дней, из дворцов, храмов, вилл, подземелий, партийных кабинетов — на Великокриницкий плацдарм! Чтоб ни соли, ни хлеба, чтоб крысы отъедали им носы и уши, чтоб приняли они на свою шкуру то, чему название — война. Чтоб и они, выскочив на край обрывистого берега, на слуду эту безжизненную, словно вознесясь над землей, рвали на себе серую от грязи и вшей рубаху и орали бы, как серый солдат, только что выбежавший из укрытия и воззвавший: «Да убивайте же скорее!..»
Начальник, командир, вождь — не народ за тобой, ты за народом.













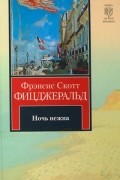


Другие издания