Бумажная
3303 ₽2799 ₽
Это бета-версия LiveLib. Сейчас доступна часть функций, остальные из основной версии будут добавляться постепенно.

 Ваша оценка
Ваша оценкаЖанры
 Ваша оценка
Ваша оценка
Прустовская проза – это художественная психотерапевтическая сессия, длительностью в 7 книг и разворачивающая внутреннюю рефлексию со всей откровенностью и точностью в деталях. Крупные мазки исповедальной кисти – это рассказы о контексте: география, история, литература, философия, политика, живопись и музыка. Растушевка и филигранная техника письма – это погружение в природу: любви, ревности, ненависти, вдохновения, страха, страсти, воображения, похоти – прописывание самых незначительных оттенков чувств и самоощущений, все проистекающее в собственном психическом мире, которые даже на лежанке у скрупулезного психотерапевта мало кто мог бы так подробно описывать и обнажать.
Эти книги – сеанс психотерапевта, который длится всю жизнь автора, пишущего о себе, но прячущего себя за своим персонажем, причем автор – и герой своего повествования, и доктор по душевным болезням, и также исповедник.
Каждый человек, словно драгоценный камень, с самого своего появления в этом мире, вставлен в оправу, которой является место и время, семья или близкое окружение, и по нарастающей, человек расширяется изнутри благодаря превращению внешнего мира из статичной и узкой оправы во всё увеличивающийся и становящийся все разнообразнее фон, включающий новые места пространства и события во времени, культурные традиции и философские концепции, социально-политические коллизии и перемены и личное вовлечение в происходящее самого человека.
И всё-таки саморефлексия Пруста, прорисовывающая самые потаённые и еле уловимые ощущения, описываемые на страницах автобиографического романа в семи книгах, при этом стыдливо прячущегося за неким персонажем, которого, тем не менее, зовут так же, как и автора, - Марсель, больше, чем самотерапия словами. Автор погружен в контекст, и фон, который его окружает, атмосфера жизни и мира так же, как и внутреннее, препарируется под скальпелем хирурга-писателя с такой же тщательностью и самозабвенностью. Но если врач должен быть непредвзят, то писатель может позволить себе предвзятость, и с абсолютной искренностью позволяет высказывать свои вкусы в музыке и живописи, возводить некоторые литературные пристрастия в эталон, чтобы потом обрушить, как и театральных персонажей, как и политических деятелей. Единственно, что не теряет красок и насыщенного восторга – это природа: небо, солнце, звезды, море, лес, луга, цветы, погода. Пантеизм вырывается из-под пера литератора, как текущий по лицу сладкий сок, когда вгрызаешься в полумесяц арбузной скибки. Пруст – мастер живописаний природы, погоды, женщин и воображаемых объектов в именно таких затяжных восхищённых тирадах, которые превращают прозу в белый стих, верлибр.
Его затяжные погружения и витиеватые фразы о человеке, его окружении, мыслях, чувствах, соблазнах, играх с собой и с другими, заставляют отправиться в собственный поиск утраченного времени. И понять, что время утратить нельзя. Что оно из иной категории, которую понять до конца, до сути смертному существу сложно.
Столько интересного по поводу мыслей и описаний Пруста возникает, что все не передать. Однако его контексты так витиеваты и глубоки одновременно, что изложить их тезисно, все равно, что насадить бабочку на иглу и добавить в гербарий.
Вот например, Пруст размышляет о том: как отзывается сказанное нами и нами же забытое в изложении других, и что-то хорошее, которое мы бы хотели, чтобы услышали те, кому оно адресовано посредством передачи их друзьями, теряется втуне, а вот какие-то случайно оброненные колкости, а может проинтерпретированные в негативном ключе, передаются искренне и с бОльшей охотой. И он же замечает, что проверить: было ли это вами сказано или нет, невозможно, время минуло. А осадочек, который вложили сплетники в якобы вашу речь, вот он, наяву, и вы с ним имеете непосредственно дело в лице того, кому передали ваше о нем мнение в нелицеприятном варианте.
В связи с этим рассуждением Пруста, у меня возникла аналогия: сейчас в соцсетях все написанное остается, и можно предъявить кому угодно, все, что угодно. Однако что не изменилось за более, чем 100 лет с момента размышлений над этим феноменом человеческой мелочности и искренней пошлости-подлости Марселем Прустом, так это людская убежденность в собственной непогрешимости, презентуемая на голубом глазу. (Захотелось найти смысл этой метафоры. Лингвисты не смогли сойтись в едином мнении относительно происхождения этой фразы. Предполагается, что выражение связано с жаргоном «смотреть голубым глазом», что значит холодно, равнодушно. Есть еще одна версия – народная. Она связана с новорожденными детьми, у которых глаза мутно-голубого цвета. Со временем цвет глаз новорожденного меняется и приобретает тот оттенок, который останется на всю жизнь. Голубые глаза младенца считаются символом невинности. Отсюда и фраза «врет на голубом глазу» - значит обманывает намеренно, но не подает виду.)
Или, например, Пруст рассуждает о поцелуе и о том, что рот – не тот орган чувств, чтобы передать все оттенки поцелуя. Что меня больше всего удивляет у автора: он берет какую-то тему и всесторонне ее рассматривает, погружая в размышления, ассоциации, внутренние диалоги и отсылки к культуре, архитектуре, природным явлениям, музыке и картинам художников. Словно бы в канву общего повествования, он вплетает, изысканные и удивительно точные с психологической и философской позиций, эссе на разнообразные темы: поцелуй, женщина, дружба, смерть, влюбленность, природа человека, мечта и т.д.
Пруст вместо философских трактатов, пишет роман длинною в семь книг о времени жизни, куда погружены все общечеловеческие темы и возможные, и придуманные воображаемые события как снаружи, так и внутри отдельной личности. Пожалуй, это произведение о Человеке в разрезе. Здесь внешнее и социальное круто замешано и порой, искренне и надолго, замещается внутренним, сокрытым и сакральным, которое немаловажно, а скорее, по мнению писателя, более значимо и значительно, чем реальные события действительности. Эдакий дневник, где чередуется происходящее, окружающий мир, в котором есть место, пространство и время для человека, и река мыслеформ и чувствообразов, довлеющих и определяющих картину мира и восприятия всего случающегося. Безусловно, такая саморефлексия – удел погруженных в себя натур, и не обладай Пруст талантом живописать тонкости собственного потока сознания, вытягивая ниточки самых скрытых и неуловимых ощущений, такое чтиво было бы скучным и надуманным. Однако это не так. Лично для меня именно эти погружения-заплывы в размышления тональности далёкой степени родства показательны, словно стихи в прозе. Они рождают глубокие и яркие соцветия и созвучия невероятных прозрений.
Что ж, следуя за автором, рождались собственные стихотворные строчки:
О, Пруст. Не прост. Слов попусту не тратя, смыслом
Он пробирает до основ, до тонкостей. Как будто кистью
Невидимой, как время-быль, сбывается мечта, а после
Сбивается в единый миг вчера и завтра, и погосты
Все тут как тут, как жизнь и смерть, однако мысль на чувства схожа
Идёт-бредет сама собой по направлению к прохожим
Твоей судьбы, ты смотришь внутрь в себя и в них, и там – контрасты
Между напыщенным, как стих александрийский, и надсадной
Иллюзией, что бередит твой юный разум, до предела,
Пока ты, сам себе не рад, отождествляешься с химерой
Великосветской. Ты здесь раб привычек чьих-то, мнений чьих-то,
Но разрушается фасад под действием иных привычек.
О, нравы! – скажут времена прошедшие, на смену прежним
Придут другие, им цена – подъем-спад вечности безбрежной,
Которой, в общем, все равно: кого венком венчать из лавра,
Поднять наверх, спустить на дно, подставить мрамор пьедестала.
Марсель кружил среди перил величья лестниц, по ступеням
То вверх, то вниз ходил-бродил – изыскивая страсть и гений,
Чтобы запечатлеть свой век, писал, описывая будней бренность,
Утраченное вновь искал, словес оттачивая ценность.
И цельность, свойственна уму, что наблюдатель наблюденья,
Живописуя - не одну - картину праздного волненья,
Поэт прочувствованных сфер, оттенков чувств неуловимых,
Он расставлял силки на тех, кем восхищался и с кем был он
Впоследствии, как скальпель, остр, и, как хирург, так беспощаден,
Когда взрезал – словесный сноб – пороки их и злые тайны.
О, Пруст, не прост круговорот твоих языковых конструкций,
Но в омут прошлого влечет тобой описанная мудрость,
И торжествуя средь глубин, и растворяясь средь мгновений,
Ты продолжаешь – господин – продлять изысканное чтенье…
Во время чтения, выписывала цитаты
«Но я уже давно не пытался извлечь из женщины, если можно так выразиться, квадратный корень неизвестного, таившегося в ней и часто сдававшегося после первого знакомства.»
О чувствах
«Но к чему в раскачке ритма от признания к размолвке (самое надежное, самое сильнодействующее, но и самое опасное средство – с помощью противоположных, чередующихся душевных движений завязать узел, который потом уже не распутаешь и который туго-натуго стягивает нас с женщиной) внутри возвратного движения, являющегося одной из составных частей ритма, различать еще и отлив жалости, если жалость, которая хотя и противопоставляет себя любви, но, быть может, неведомо для нее самой кроется в одном и том же, приводит к одинаковым последствиям? Подводя в дальнейшем итог нашим отношениям с женщиной, мы зачастую приходим к выводу, что поступки, внушенные желанием доказать женщине, как мы ее любим, влюбить ее в себя, быть ею обласканными, имеют почти такое же значение, как и те, что были вызваны человеколюбивой потребностью загладить свою вину перед любимым существом, те, что мы совершили, повинуясь самому элементарному нравственному долгу, те, что мы совершили бы и по отношению к женщине нелюбимой.»
«Таково ведь свойство любви, – полюбив, мы становимся подозрительнее и вместе с тем легковернее, у нас закрадывается сомнение насчет любимой женщины скорее, чем насчет какой-нибудь другой, и в то же время нам легче принять на веру ее запирательство. Нужно любить для того, чтобы отдавать себе отчет, что существуют не одни только честные женщины, а следовательно, обращать внимание и на нечестных, нужно любить еще и для того, чтобы желать их существования, иными словами – чтобы убеждаться в их существовании. Людям свойственно искать страданий для того, чтобы потом от них избавляться. Мысли, которые ведут нас к намеченной цели, мы, не рассуждая, признаём верными – вы же не станете придираться к недостаткам успокоительного, если оно помогает. И вот еще что: многосторонне или не многосторонне любимое существо, две совершенно разные личности мы, во всяком случае, можем в нем различить, а зависит это от нашей уверенности в том, что любимое существо – в нашей власти, или же, напротив, в том, что его помыслы устремлены не к нам. Первая из этих личностей обладает особой силой, присущей только ей, – силой убивать нашу веру в реальность другой и особым секретом – секретом утоления боли, которую эта другая личность нам причиняет. Любимое существо является для нас то болезнью, то лекарством, от которого нам становится то лучше, то хуже.»
«Мне бы надо было в тот же вечер уехать и больше с ней не встречаться. С тех пор меня не покидало предчувствие, что в неразделенной любви – иначе говоря, просто в любви, потому что у иных любовь всегда бывает неразделенной, – можно наслаждаться не самим счастьем, а лишь его видимостью – видимостью, посетившей меня в одно из тех неповторимых мгновений, когда благодаря доброте женщины, или благодаря ее причуде, или благодаря случайности нашим желаниям вполне соответствуют ее слова, ее действия, – так, как если бы она любила нас на самом деле. Благоразумие от меня требовало, чтобы я Г с любопытством рассмотрел эту дольку счастья и с наслаждением вкусил, потому что, если б у меня ее не было, я бы умер, так и не узнав, что дает это счастье сердцам менее требовательным и более избалованным; чтобы я вообразил, что это всего только доля счастья необъятного и долговечного, приоткрывшегося мне лишь на мгновение, и, из боязни, как бы на другой день самообман не улетучился, не пытался заслужить еще одну милость после той, которая досталась мне благодаря тому, что, как нарочно, выпала такая редкостная минута.»
Три цитаты, как вкрапления в описание встречи героя с девушкой, в которых он анализируя, препарирует себя и свои чувства влюбленности, отношения вообще, сопоставляет и противопоставляет. И это до Фрейда и тем более Юнга. Такое самоуглубление… Самокопание и докапывание до основ, чтобы вывести себя и свои желания на чистую воду понимания.
О встречах и мечтах
«В Сен-Пьере-Тисовом в наше купе вошла прелестная девушка, к сожалению, не из кружка «верных». Я так и впился в нее взглядом: лицо у нее было цвета магнолии, глаза черные, сложена она была дивно с прекрасно развитыми формами. Не успев войти, она изъявила желание открыть окно, потому что в купе было довольно душно, а так как только я один и был без пальто, то, не спрашивая позволения у других она, обратившись ко мне, быстро, звонко и весело проговорила: «Вы не боитесь свежего воздуха?» Мне хотелось сказать ей: «Поедемте с нами к Вердюренам» – или: «Как вас зовут и где вы живете?» Но я ответил: «Нет, мадемуазель, я люблю свежий воздух». Плотно усевшись, она опять обратилась ко мне: «Ваши друзья ничего не будут иметь против, если я закурю?» – и зажгла папиросу. На третьей станции она выпрыгнула. На другой день я спросил Альбертину, кто бы это мог быть. Ведь я по своей глупости считал, что можно любить что-нибудь одно, и, приревновав Альбертину к Роберу, уже не думал об ее отношениях с женщинами. Альбертина ответила, что она ее не знает, и, по-видимому, это была сущая правда. «Мне бы так хотелось с ней встретиться!» – воскликнул я. «Можете быть спокойны, – сказала Альбертина. – Люди всегда в конце концов встречаются». В данном случае она ошиблась: больше я ни разу не встретил прелестную девушку с папиросой и так и не узнал, кто она. Из дальнейшего будет видно, почему мне пришлось надолго отказаться от поисков. Но забыть я ее не забыл. Часто, когда я думаю о ней, меня охватывает страстное желание. Но эти возвраты чувства приводят нас к заключению, что если мы хотим, чтобы встреча с девушкой доставила нам такую же радость, как в первый раз, то нам нужно вернуться на десять лет назад, а за эти годы красота девушки увяла. Вновь встретиться с человеком можно, но упразднить время нельзя. Обычно тоскливым днем, тоскливым, как зимняя ночь, совершенно неожиданно мы находим эту девушку, когда уже не ищем встречи ни с ней, ни с другой и когда эта встреча вызывает у нас даже чувство страха. Ведь мы отдаем себе отчет, что уже не можем нравиться и что нет у пас сил, чтобы любить. Конечно, я употребляю слово «сил» не в прямом его смысле. А вот любили бы мы теперь так, как не любили никогда прежде. Но мы чувствуем, что в запасе у нас слишком мало душевной бодрости, чтобы затевать такое громадное предприятие. Вечный покой уже образовывает в нашей жизни такие промежутки времени, когда мы не в состоянии выйти из дому, не в состоянии разговаривать. Не оступиться на лестнице – это такая же удача, как благополучно совершить опасный прыжок. Ну как же предстать в таком виде перед любимой девушкой, даже если у тебя по-прежнему молодое лицо и ни одного седого волоса! Мы устаем шагать в ногу с юностью. А если еще наша плоть поднимает бунт, вместо того чтобы утихомириться, то это уже целое несчастье! Чтобы ублажить ее, мы зовем к себе женщину, которую нам ни к чему очаровывать, которая разделит с нами ложе только на один вечер и которую мы никогда больше не увидим.»
Вот это рассуждение о невстречах повторных не о том ли, что мы дорожим и лелеем внутри то, что нам хочется, придумывая персонажа, словно бы выращивая из зернышка минутного общения и взгляда на человека, цветок мечты и ожиданий развития событий.
Конечно же, таких, какие приятны нашему уму и сердцу, таких, которые смогли бы удовлетворить на 100% наше воображение с ориентацией на идеальное. И может потому, повторно такие встречи нам не даются, чтобы идеал-нечто, хрупкий фантов внутри нас, остался однозначно тем, чем он и является – ничем, фантазией, сказкой… Реальность же опять и снова погружает нас в противоречия, в дуальность и, сопряженную с ней, раздвоенность между желаниями-мечтами и происходящим как таковым, без прикрас и обиняков.
Саморефлексия
«Погасшее небо мало-помалу разгоралось. Прежде, просыпаясь, я всегда встречал улыбкой любую вещь, любое явление – чашку кофе с молоком, шум дождя, рев ветра, а теперь я почувствовал, что день, который вот-вот настанет, и те дни, которые придут ему на смену, уже не принесут мне надежды на неведомое счастье – они будут только растягивать мои мученья. Я все еще дорожил жизнью, хотя и сознавал, что ничего, кроме жестокости, мне от нее ждать нечего.»
О переменах
«Я осознавал перемены, происшедшие во мне, сопоставляя их с неизменностью предметов. Мы привыкаем к вещам, как к людям, и когда мы вдруг вспоминаем, какое значение они имели для нас, а потом утратили всякое значение, то обрамленные ими события, ничего общего не имеющие с нынешними, многообразие происшествий, случившихся под тем же самым потолком, среди тех же застекленных шкафов, перемены в сердце и в жизни, составляющие часть этого многообразия, благодаря несменяемости декорации, в силу единства места растут в наших глазах.
Несколько раз за короткое время мне приходила в голову мысль, что мир, где находится эта комната и застекленные шкафы и где Альбертина так мало значит, есть, быть может, мир духовный, единственно реальный, а моя тоска – это что-то вроде тоски, которую навевает чтение романа и которую только безумец способен превратить в непрерывное, неотвязное горькое чувство, которое остается у него на всю жизнь; что, быть может, небольшим усилием воли я возвращусь в этот реальный мир, войду в него, перешагнув через мою боль, как бы разорвав бумажное серсо, и стану страдать из-за Альбертины не больше, чем из-за героини романа, который мы дочли. Вообще самые дорогие моему сердцу избранницы не соответствовали силе моего чувства к ним. С моей стороны это бывала настоящая любовь, потому что я жертвовал всем ради того, чтобы увидеться с ними, ради того, чтобы остаться с ними наедине, потому что я рыдал, заслышав однажды вечером их голос. Они обладали способностью будить во мне страсть, доводить меня до сумасшествия, но ни одна из них не являла собою образа любви. Когда я их видел, когда я их слышал, я не находил в них ничего похожего на мое чувство к ним, и ничто в них не могло бы объяснить, за что я их люблю. И все же единственной моей радостью было видеть их, единственной моей тревогой была тревога их ожидания. Можно было подумать, что природа наделила их каким-то особым побочным свойством, не имеющим к ним никакого отношения, и что это свойство, это нечто, напоминающее электричество, возбуждает во мне любовь, то есть только оно одно управляет моими поступками и причиняет мне боль. Но красота, ум, доброта этих женщин были отъединены от этого свойства. Мои увлечения, точно электрический ток, от которого мы вздрагиваем, сотрясали меня, я жил ими, ощущал их, но мне ни разу не удалось увидеть их или осмыслить. Я даже думаю, что, увлекаясь (я не имею в виду физическое наслаждение, которое обычно связано с увлечением, но которое не порождает его), мы обращаемся как к неведомому божеству не к самой женщине, а к принявшим ее облик невидимым силам. Нам необходима не чья-нибудь, а именно их благосклонность, мы добиваемся соприкосновения именно с ними, но не получаем от него истинного наслаждения. Во время свидания женщина знакомит нас с этими богинями, но и только. Мы обещаем принести им в дар драгоценности, путешествия, находим слова, означающие, что мы их боготворим, и слова, означающие, что мы к ним равнодушны. Мы, хотя и не назойливо, делаем все, чтобы добиться нового свидания. И все же, не будь этих таинственных сил, разве мы стали бы выворачиваться наизнанку ради самой женщины, если стоит ей уйти, и мы затрудняемся сказать, как она была одета, и припоминаем, что ни разу на нее не взглянули?
Так как зрение обманчиво, то нам представляется, что тело женщины, даже любимое, как тело Альбертины, удалено от нас, хотя бы нас разделяло всего лишь несколько метров, несколько сантиметров. И с другой женщиной происходит то же самое. Только если что-нибудь заставляет ее душу резко изменить положение и мы видим, что женщина любит не нас, а кого-то другого, только тогда учащенное биение нашего сердца подсказывает нам, что любимое существо находится не в нескольких шагах от нас, а в нас самих. В нас самих, более или менее глубоко.»
О ревности
«…ревность принадлежит к числу тех перемежающихся болезней, причина которых, капризная, повелительная, всегда одинаковая у одного больного, бывает иногда диаметрально противоположной у другого. Есть астматики, способные успокаивать свои припадки только открывая окна, подставляя грудь ветру, вдыхая чистый воздух горных вершин, и есть другие, которые чувствуют себя лучше, забившись в прокуренной комнате в центре города. Мало найдется таких ревнивцев, ревность которых не шла бы на некоторые компромиссы. Один соглашается бывать обманутым, лишь бы ему сообщили об этом, другой, напротив, — при условии, чтобы от него скрывали измены; оба они одинаково безрассудны, ибо, если второй бывает обманутым в более строгом смысле этого слова, поскольку от него скрывают истину, то первый хочет получить от этой истины пищу для своих страданий, их продление и обновление.
Больше того, обе эти противоположные мании ревности часто не довольствуются словами, не ограничиваются тем, что вымаливают или отвергают признания. Встречаются ревнивцы, ревнующие только к женщинам, с которыми их любовница имеет сношения вдали от них, но позволяющие ей отдаваться другому мужчине, если это происходит с их ведома, подле них, и хотя не на глазах у них, то по крайней мере под их крышей. Этот вид ревности довольно часто можно наблюдать у пожилых мужчин, влюбленных в молодую женщину. Они сознают трудность нравиться ей, чувствуют иногда бессилие удовлетворить ее и, не желая бывать обманутыми, предпочитают пускать к себе, в соседнюю комнату, молодого человека, которого считают неспособным дать их любовнице дурные советы, но очень способным доставить ей наслаждение. Другие поступают как раз наоборот: ни на минуту не оставляя своей любовницы одной в знакомом им городе, они держат ее в настоящем рабстве, но в то же время соглашаются отпустить ее на месяц в страну, которой они не знают, где ее поведение будет недоступно их воображению. По отношению к Альбертине у меня были оба эти вида успокоительных маний.»
О любви
«Какую необыкновенную важность приобретают вдруг вещи, вероятно, самые ничтожные, когда их от нас скрывает любимое существо (или такое, которому не хватало только этой двойственности, чтобы мы его полюбили)! Само по себе страдание не пробуждает в нас непременно любви или ненависти к причиняющему его лицу: хирург, делающий нам больно, остается для нас безразличным. Но вот женщина твердит нам в течение некоторого времени, что мы — все для нее, хотя бы сама она не была всем для нас, — женщина, которую мы с удовольствием видим, целуем, держим у себя на коленях, — как же мы бываем удивлены, если по внезапному ее сопротивлению узнаем, что мы над ней не властны. Горькое это открытие пробуждает иногда в нас давно забытую тоску, которая однако вызвана была не этой женщиной, а другими, чьи измены вереницей уходят в наше прошлое; да и откуда взять мужество, чтобы желать жить, как найти в себе силы, чтобы оборониться от смерти, в мире, где любовь вызывается только ложью и целиком сводится к потребности в успокоении наших страданий существом, которое нам их причинило? Чтобы освободиться от подавленности, которую мы испытываем, открывая эту ложь и это сопротивление, есть грустное средство попытаться воздействовать на ту, что противится и лжет нам, наперекор ее желаниям, с помощью существ больше нас вхожих в ее жизнь, попытаться самим пуститься на хитрости, внушить к себе отвращение. Но страдание от такой любви принадлежит к числу тех, что неодолимо увлекают больного искать обманчивого облегчения в перемене положения.
В нашем распоряжении есть, увы, сколько угодно подобных способов действия! Ужас такой любви, порожденной одной лишь тревогой, проистекает от того, что, сидя в своей клетке, мы беспрестанно переворачиваем на все лады самые незначительные фразы; не говоря уже о том, что лица, являющиеся ее предметом, редко нравятся нам физически во всех отношениях, ибо выбор наш определяется не свободным влечением, но случайной минутой тоски, минутой, бесконечно продолжаемой слабостью нашего характера, которая каждый вечер заставляет нас повторять опыты и прибегать к болеутоляющим средствам.
О сне и сновидениях
«По утрам, когда мне выпадало такое счастье, когда губка сна стирала с моего мозга письмена повседневных забот, начертанные там как на грифельной доске, я бывал вынужден оживлять свою память: усилием воли можно восстановить то, что было погружено в забвение амнезией сна или паралича и что постепенно возрождается по мере того, как глаза раскрываются и онемение проходит.»
«Однако вымолвить эти слова вместо тех, о которых продолжал думать едва проснувшийся сонливец, каковым я оставался, стоило мне таких же эквилибристических усилий, какие мы затрачиваем, соскакивая на ходу с поезда и пробегая несколько шагов по направлению движения, чтобы удержаться на ногах. Мы некоторое время бежим, потому что покинутая нами среда была оживлена большей скоростью и очень отличается от инертной почвы, к которой наши ноги привыкают не без труда.
Из того, что мир сновидений отличен от мира яви, не следует, что мир яви менее истинный, — напротив. В мире сна наши воспоминания настолько перегружены, настолько уплотнены другими восприятиями, бесполезно их удваивающими и затемняющими, что мы даже не в состоянии различить, что происходит в головокружительную минуту пробуждения: Франсуаза ли это пришла, или же я, устав ее звать, шел к ней сам. В такие минуты молчание бывало единственным средством не выдать себя, как в минуту, когда вас арестовывает следователь, осведомленный о касающихся вас обстоятельствах, но сами вы в тайну их не посвящены. Франсуаза ли это пришла, я ли ее позвал? Не спала ли на самом деле Франсуаза, а я только что разбудил ее? Больше того: не была ли заключена Франсуаза в моей груди, — настолько смутно различаются люди и их взаимоотношения в этой полумгле, где действительность так же мало прозрачна, как в мозгу какого-нибудь дикобраза, и где еле намечающиеся восприятия похожи вероятно на восприятия некоторых животных? Но если даже в светлом безумии, заливающем нас перед погружением в мертвый сон, плавают как яркие огоньки клочки мудрости, если мы продолжаем помнить имена Тэна и Джорджа Элиот, все же мир яви обладает тем преимуществом, что каждое утро он может быть продолжен, между тем как сновидение возобновляется не каждый вечер. Но нет ли других миров, более реальных, чем мир яви? Мы ведь видели, что и он подвергается изменению с каждым переворотом в области искусства, и даже больше — в одно и то же время он различен для людей разной культуры и разных способностей, для художника и для невежественного глупца.»
«Часто лишний час сна равносилен апоплексическому удару, после которого приходится снова овладевать механизмом движений телесных органов, учиться говорить. Усилия воли тут не помогут. Мы слишком крепко спали, нас больше нет. Пробуждение едва ощущается механически и бессознательно: так, вероятно, испытывается трубой закрытие крана. Мы живем тогда более тусклой жизнью, чем жизнь медузы, и наше самочувствие можно было бы сравнить с самочувствием человека, вытащенного из глубин моря или вернувшегося из тюрьмы, если бы вообще у нас были в то время какие-нибудь мысли. Но тут к нам спускается с небес богиня Мнемотехния и в форме «привычки спрашивать кофе со сливками» подает нам надежду на воскресение. Однако внезапный дар памяти не всегда бывает так прост. Часто в эти первые минуты после пробуждения мы прикасаемся к истине различиях реальностей, и нам кажется, что мы можем делать между ними выбор, как при игре в карты.»
«Сегодня пятница, и мы возвращаемся с прогулки, или же теперь час вечернего чая на берегу моря. Мысль о сне и о том, что мы лежим на кровати в ночной рубашке, часто приходит нам в голову последней.
Воскресение совершается не сразу; нам кажется, что мы позвонили, тогда как мы и не прикасались к звонку, мы ведем какие-то бредовые рассуждения. Лишь движение возвращает нам рассудок, и лишь действительно нажав кнопку электрического звонка, мы можем наконец медленно, но отчетливо проговорить: «Уже наверно десять часов, Франсуаза, дайте мне кофе с молоком». О чудо! Франсуаза и не подозревала о все еще омывавшем меня море нереального, через которое я набрался сил бросить свой странный вопрос. В самом деле, она отвечала мне: «Уже десять минут одиннадцатого». Этот ответ сообщал мне видимость рассудительности и позволял не дать заметить причудливых разговоров, которые нескончаемо баюкали меня в дни, когда я не был отрезан от жизни горой небытия. Усилием воли я возвращал себя в царство действительности. Я еще наслаждался обрывками сна, этого единственного выдумщика, единственного обновителя повествовательной манеры, ибо все, что мы измышляем в состоянии бодрствования, будь даже наши вымыслы украшены литературой, лишено того таинственного разнообразия, откуда рождается красота.
Напрашивается сравнение с красотой, создаваемой опиумом. Но для человека, привыкшего засыпать лишь с помощью наркотиков, неожиданный час естественного сна откроет утреннюю необъятность столь же таинственного и более бодрящего пейзажа. Варьируя час и место сна, вызывая сон искусственными способами или же, напротив, возвращаясь изредка к сну естественному — самому необычайному из всех для человека, привыкшего засыпать с помощью снотворных средств, — мы можем добиться неисчислимых разновидностей сна, в тысячу раз превосходящих разновидности гвоздик и роз, которые удается вырастить искусному садоводу. Иные цветы, выращиваемые такими садоводами, похожи на упоительные грезы, другие — на кошмары. Засыпая определенным способом, я просыпался стуча зубами, в уверенности, что у меня корь, или же, — вещь гораздо более мучительная, — что моя бабушка (о которой я никогда больше не думал) страдает оттого, что я посмеялся над ней, когда однажды в Бальбеке, почувствовав приближение смерти, она захотела сняться и подарить мне свою фотографию. Хотя я совсем проснулся, я хотел тотчас же пойти объяснить ей, что она меня не поняла. Но тем временем я согрелся. Диагноз «корь» был отброшен, и бабушка настолько отдалилась от меня, что не причиняла больше страданий моему сердцу. Иногда над этими разнообразными снами внезапно нависала тьма. Мне было страшно продолжать прогулку по непроглядной улице, с которой до меня доносились шаги бродяг. Вдруг отчетливо слышалась перебранка между полицейским и одной из женщин, которые часто занимаются кучерским промыслом и издали кажутся молодыми извозчиками. Я не видел ее на погруженном во мрак сиденье, но отчетливо различал ее голос, и звуки его говорили мне о красоте ее лица и юной гибкости тела. Я направлялся к ней в темноте с намерением сесть в ее фиакр прежде, чем она уедет. Идти было далеко. К счастью, перебранка с полицейским продолжалась. Я успевал подойти к экипажу, когда он еще стоял. Эта часть улицы освещалась фонарями. Лицо кучера можно было разглядеть. Это была действительно женщина, но старуха, рослая и сильная, с седыми волосами, выбивавшимися из-под фуражки, и красными пятнами на лице. Я уходил, думая: не такова ли молодость всех вообще женщин? Не обращаются ли в старух встреченные нами девушки, если у нас вдруг возникает желание вновь их увидеть? Молодая женщина, возбуждающая наше желание, похожа на театральную роль, которую, когда увядает ее создательница, приходится поручать новой звезде. Но тогда это уже не та.
Потом мной овладевала печаль. Во сне мы часто проникаемся жалостью, напоминающей Pieta Ренессанса, но не изваянной из мрамора, а напротив — очень шаткой. Она однако оказывает на нас благотворное действие, напоминая о более участливом, более человечном отношении к вещам, которое мы очень склонны забывать в состоянии бодрствования — рассудительном, холодном, часто исполненном враждебности. Так вспомнил я о данном себе в Бальбеке обещании всегда относиться участливо к Франсуазе. По крайней мере сегодня утром я постараюсь не раздражаться на перебранку Франсуазы с метрдотелем, постараюсь быть мягким с Франсуазой, к которой другие проявляли так мало доброты. Сегодня утром, — но нужно будет составить себе немного более устойчивый кодекс; ибо, как народами нельзя долго управлять при помощи политики чувства, так и отдельными людьми при помощи воспоминания о виденных снах. Уже оно начинало улетучиваться. Пытаясь удержать его, чтобы закрепить в наглядных образах, я лишь скорее его прогонял. Веки мои уже не смыкались с такой силой на моих глазах. Попытайся я восстановить свой сон, они бы совсем открылись. Каждую минуту приходится выбирать между здоровьем, благоразумием, с одной стороны, и духовными наслаждениями — с другой. Я всегда проявлял малодушие и выбирал первое. Опасная сила, от которой я отступался, была к тому же еще более чревата опасностями, чем обыкновенно думают. Жалостливость, сны улетают не одни. Разнообразя условия, при которых мы засыпаем, и прогоняя таким образом сновидения, мы на долгие дни, иногда на целые годы, не только утрачиваем способность видеть сны, но вообще лишаемся сна. Сон — божественный дар, но он так воздушен: стоит немного его потревожить, и он улетучивается. Он друг привычек; более стойкие, они удерживают его каждый вечер на освященном ими месте, предохраняют от всякого потрясения, но если мы его перемещаем, если он лишается опоры, он разлетается как дым. Он похож на молодость и на любовь: однажды утратив, мы больше его не найдем.
В этих разнообразных снах, как и в музыке, красоту создавало увеличение или уменьшение интервалов. Я наслаждался ею, но зато утратил, несмотря на краткость моего сна, добрую часть уличных возгласов, в которых мы так явственно ощущаем бродячую жизнь парижских ремесленников и разносчиков. Поэтому обыкновенно (не предвидя, увы! драмы, к которой должны были вскоре привести меня подобный поздний сон и мои драконовские персидские законы расинова Артаксеркса) я старался проснуться пораньше, чтобы ничего не упустить из этих уличных криков.»
На тему Прустовских рефлексий относительно снов, у меня родилось стихотворение:
Ты – пленник моих сновидений словесных,
Отчетливый оттиск на памяти… Пресс-миг
Опущен ресницами, и дышит ровно
Скиталец-поэт, глаза с поволокой
Предчувствий закрыты. Задраены люки
Внутри снов и слов, жизнь взята на поруки
Творцом, чтоб творение длилось, делилось
И с образом истинным соединилось…
И в этом плену, ты – мой пленник крылатый,
И снова восторгом нездешним объята,
Срываю покров суеты и соблазнов,
И непониманья о сущности счастья
В дуальном пространстве… Законы другие
Здесь, в фата-моргана фантазии, мирра
И ладан, и тонкая нота жасмина,
И горькая мята сливаются дивно…
И всё наполняет собой постоянство
Заветной иллюзии. Может реальность
Вместить столько свежести, разности, чтобы
Любовь проявила себя высшей пробы?
Увы, просыпаясь, я вновь вспоминаю:
Ты – вечный беглец из нестойкого рая
Моих сновидений словесных… Я – тоже
Беглянка, стихи же – Иное под кожей…

В первый раз я читала Пруста в универе, роман был в программе по зарубежке. Не помню своих впечатлений, скорее всего, мне было скучно. Тем более, что времени на вдумчивое чтение не было, интернета тоже не было, и посмотреть на фото Илье-Комбре или найти рецепт мадленок было негде.
⠀
Первый том я читала очень медленно, отвлекаясь на упомянутые в книге картины, кулинарные рецепты, читая статьи и слушая лекции.
⠀
Сейчас роман стал для меня книгой-настроением, книгой-ощущением. В нем очень мало событий (точнее их там совсем нет), это роман не о событиях, а о внутренних переживаниях и впечатлениях, попытка прожить их еще раз, вернуться, разобрать их на мельчайшие детали, вспомнить запахи, звуки, цвета.
⠀
Это конечно уникальный текст о времени, о его восприятии. Время для Пруста не линейно, он с легкостью ныряет в один момент и выныривает то в прошлое, то в будущее. Еще это об устройстве памяти - о том, что положение тела может подсказать воспоминание о месте, где ты бывал, о том, что сочетание знакомых вкусов может унести тебя в детство.
⠀
Очень плавный, психотерапевтический текст (я где-то читала, что переписыванием текстов Пруста лечат (или лечили) пациентов с неврозами). Он действительно успокаивает, умиротворяет, и в то же время дает огромное поле для размышления. Невольно начинаешь пытаться вспомнить свои ощущения в сходных ситуациях, сопоставляешь свои воспоминания.
⠀
Несколько утомляет излишняя декоративность текста и трепетность и многословность рассказчика, но все это в конечном итоге компенсируется глубиной и цельностью.

Главное в книге - выхваченные эмоции из разных отрезков жизни. Отношения в высшем свете. Борьба нравов и морали. Бессильность перед жестокой женской коварностью. Подробно описанные параноидальные страдания и бессмыслица поиска пятого угла. Сюжет имеет место быть, но лишь как орнамент к огромному миру чувств и впечатлений молодого Пруста. Ну это если верить в то, что роман автобиографичен. Остальные 6 книг, которые и составили серию в "В поисках утраченного времени" уже подготовлены к прочтению. Так что путешествие продолжается!






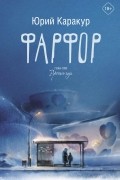



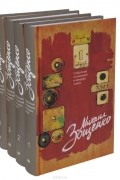









Другие издания
