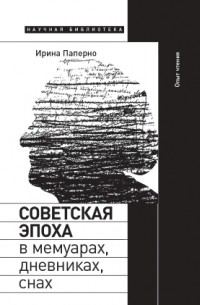"... вот-вот замечено сами-знаете-где"

- 39 918 книг
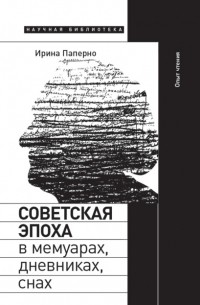
 Ваша оценка
Ваша оценкаЖанры
 Ваша оценка
Ваша оценка
Через телевизор государство входит в комнату старой, одинокой и больной женщины, пользуясь её слабостью. (Мы видели, как по мере разложения семьи Киселёвой телевизор, за счёт постоянного присутствия, стал её "лучшим другом", что она хорошо сознает.) Через телевизор государство обращается к этой женщине и политическим языком (через хронику новостей), и художественным (через фильмы и песни), воздействуя на эмоции, обостренные клинической травмой (роль травмы также не укрылась от сознания самой Киселёвой)... Когда болезненные воспоминания прошлой войны, поддерживаемые художественно-политической пропагандой, встретились с мобилизованным властью страхом будущей войны, от которой (как казалось Киселёвой) спасти её может только "руководитель" (и, желательно, бессмертный руководитель), в каждодневной жизни этой простой женщины открылось широкое пространство - область политических, исторических и апокалиптических смыслов.
Дневниковые записи показывают, что простая женщина Евгения Киселёва вошла в это пространство, охотно, осознанно и с теплым чувством соучастия в общей жизни - несмотря на страх и боль (вплоть до ущерба для здоровья). Она восприняла и усвоила официальный дискурс угрозы ядерной войны, мешая его с апокалиптическими образами крестьянской культуры.

Мариэтта Чудакова, проработавшая многие годы хранителем в рукописном отделе Ленинской библиотеки, считает долгом своих современников писать - во имя будущего - мемуары о прошлом: "Важно создание неофициальных, частных источников для будущего изучения нашего времени." Она поясняет назначение таких документов в символических терминах: "Мы даём показания на суде истории - который отнюдь не отодвинут в отдалённое, непредставимое будущее, а идет ежедневно, не прерываясь." Эта развёрнутая метафора восходит к знаменитой гегелевской формуле Weltgeschichte ist Weltgericht (мировая история есть всемирный суд), то есть к представлению об историческом процессе как о секуляризованном варианте Страшного суда, которое было частью и русского исторического сознания. Создание человеческих документов видится в этом ключе как эквивалент русского Нюрнберга (если не Страшного суда) и в этом качестве - социальным долгом каждого пережившего советское время:

И как читатель Достоевского и Хармса, и как субъект сталинского террора, Друскин знает, чего не надо делать: насилие недопустимо даже по отношению к убийце, и оно бесполезно - мертвая старуха получит новую силу убивать.


















Другие издания