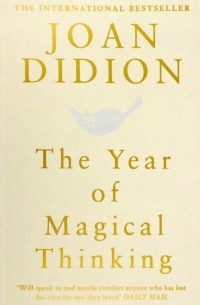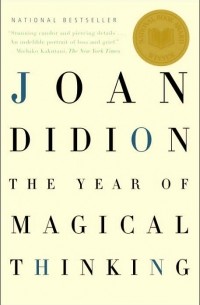Современная зарубежная проза, которую собираюсь прочитать

- 3 670 книг

 Ваша оценка
Ваша оценкаЖанры
 Ваша оценка
Ваша оценка
«Год магического мышления» – это душераздирающие мемуары Джоан Дидион, посвящённые переживаниям, горю и трауру, пережитыми ею в горе от внезапной смерти мужа 30 декабря 2003 года, в то время как их дочь пять дней находилась в искусственной коме из-за тяжёлой пневмонии, которая переросла в септический шок. Поскольку это было моё первое знакомство с Дидион, я не представляла, что будет в книге, но она обладает таким мастерством слова, что я совершенно потеряла дар речи. Эта книга, без сомнения, стала очень личным и тяжёлым чтением.
Эта книга, как говорит сама Дидион, – её попытка понять, что с ней произошло, и изменить её прежний взгляд на жизнь. Она размышляет о понятиях горя, глубокого траура, о совместных ритуалах, одиночестве, разрывающей боли, о потере, о днях, которые прошли и больше никогда не повторятся. Она как бы застряла в перемотке прошлого с желанием сохранить жизнь мёртвых.
Мне очень понравился подход Дидион к пониманию смерти её мужа. Она пишет: «В трудные времена меня с детства учили читать, учиться, анализировать, обращаться к литературе. Информация была контролем». И именно этим она и занимается: читает, изучает, исследует, задаёт вопросы и требует ответов от врачей, цитирует тексты по медицине, фармакологии, психологии и психиатрии. Она объединяет научные данные и личные истории, чтобы разобраться в обстоятельствах, которые привели к фатальному сердечному приступу. Смерть — единственная истинная неизбежность, с которой мы сталкиваемся, и пронзительные размышления о смертности и памяти здесь прекрасны. Горе — универсальная эмоция, с которой мы все сталкиваемся в той или иной степени, поэтому мемуары кажутся вне времени.
Эта книга меня приятно удивила, и я очень признательна Дидион за то, что она поделилась такими искренними и личными эмоциями со своими читателями, глубоко проникла в её слова и верю, что когда обычный день превратится в катаклизм, я вернусь к её перечитыванию и напитаюсь мудростью.

Это был самый обычный декабрьский день. Вся рождественская кутерьма осталась позади, можно отдохнуть и расслабиться, пусть мысли о дочери и не дают покоя; по крайней мере, ей становится лучше, а это уже что-то. Они пришли домой, разожгли камин, приготовили ужин. Разговоры о заболевшей дочери, читаемой книге, планах на завтра. Полумрак, треск огня, домашний уют. Стол, тарелки, салат. Он говорил о книге, а затем внезапно умолк. Она, посмотрев на него и увидев странное положение его левой руки, подумала что он шутит, пытаясь снизить напряжённость последних часов, проведённых у больничной койки их дочери. Он не шутил. Он уже был мёртв. «Жизнь меняется быстро. Жизнь меняется за секунду. Садишься ужинать – и знакомая тебе жизнь кончается». Это и правда был самый обычный декабрьский день, но с того момента как его сердце перестало биться, этот день стал для неё днём, который она проживала вновь и вновь, днём, когда время для неё замерло, днём, когда в каком-то смысле остановилось не только его сердце, но и её.
Несмотря на то, что это первая прочитанная мной книга Джоан Дидион, о ней, её творчестве и наследии я наслышана. Она часто интервьюировала тех, кто пережил страшное или потерял близких, потому о чужом горе она знала много чего. Но чужое горе на то и чужое. Знакомая журналистка, прочитавшая книгу в оригинале и посоветовавшая её мне, восхищалась её выверенным слогом, и теперь я понимаю, что она имела в виду: Джоан будто бы брала интервью у самой себя, была исследователем своего горя и всех его граней. «Именно обыденность всего, что предшествовало, мешала мне полностью поверить в случившееся, принять его, признать, усвоить и жить дальше», – несколько отстранённо подмечала она это и многие другие вещи, что терзали её на протяжении того года, и то, с какой сухостью она рассказывала о страшном, описывая в подробностях смерть Джона и происходящее с Кинтаной, поражало, но те незначительные на первый взгляд моменты, в которых проскальзывала тень её истинных чувств, давали понять, насколько же ей было больно (сломанные часы, засохшие ручки, его блокнот). Она проделала невозможное: полностью отстранившись от эмоций и чувств, она показала как проходил её первый год без человека, который на протяжении сорока лет был для неё всем – возлюбленным, напарником, советчиком, и одно только это достойно уважения. Многим, я думаю, откликнулось.
«Скорбь, когда приходит, оказывается не такой, какой ожидаешь». Мне всегда казалось безумным, что, когда у человека умирает близкий, он должен следовать определённым правилам. Не плачет? Ему не так больно. Не возвращается к обыденной жизни? Ему нравится себя жалеть. То, что каждый переживает смерть по-своему, почему-то забывается; я уяснила это, когда мне было двенадцать лет. Вот что по-настоящему страшно. Страшно и то, что никто тут уже не поможет. То, с каким отчаянием Джоан пыталась отыскать ответы в многочисленных книгах и исследованиях, то, как она вновь и вновь возвращалась к воспоминаниям в попытке уловить тот миг, когда всё можно было изменить, то, как её снедало чувство вины, – всё это показалось мне до боли знакомым: ну ведь должны же быть ответы, должен же быть во всём этом какой-то смысл! Но суть в том, что никакого смысла в этом нет: «Я осознала, что на самом деле от точного ответа ничего не зависит. Случилось то, что случилось. Такова моя новая реальность». Человек был жив: она рассказывала ему о своих снах, обсуждала с ним свою работу, он всегда дожидался её к ужину, держал за руку, когда взлетал самолёт, – «И вдруг его не стало». И больше некому рассказать о кошмаре, некому дать статью для правки, ужинать придётся в одиночестве, а когда самолёт оторвётся от земли, останется лишь до боли сжать ручки кресла. Спустя год она потеряла и дочь, своё единственное дитя. Единственное, что ей осталось, – это отпустить тех, кто был для неё всем, смириться с их смертью, научиться с этим жить. Но как же это сложно... Как же сложно.
Несмотря на то, что эта книга подобна исследованию самой природы скорби, несколько раз она вызывала у меня лавину эмоций, до того знакомыми казались некоторые моменты. Есть книги, которые пишут о подобном столь душераздирающе, что постоянно задыхаешься от слёз, – здесь такого нет и в помине. Несмотря на то, что Джоан говорит правильные вещи о жалости к себе, она себя нисколько на жалеет, она просто и честно рассказывает читателю и в первую очередь самой себе о том, что она чувствовала на протяжении этих двенадцати месяцев. Размышлять о смерти страшно, ещё страшнее думать о смерти своих любимых, но правда такова, что рано или поздно умрут все. Но, несмотря на столь сумрачные мысли, не могу сказать, что после прочтения меня одолела меланхолия, скорее напротив. «Так о вере эта книга или о скорби? Или скорбь и вера – одно и то же?», – кто знает. «Больше, чем ещё один день», – говорил Джон жене и дочери. Возможно, это и есть ответ.
«Мы пытаемся удержать их живыми, чтобы удержать их подле себя. Я также знаю: чтобы продолжить собственную жизнь, нам придётся однажды отпустить умерших, позволить им уйти, оставить их смерти. Отпустить, чтобы умерший превратился в фотографию на столе. Отпустить, чтобы умерший превратился в имя в отчётах трастового фонда. Отпустить его в воде».
Многие говорят о Джоан Дидион как о тонкой и проницательной эссеистке; если это правда, очень жаль, что я начала читать её с "Года магического мышления", потому что перед глазами у меня теперь скорбящая вдова в костюме от Версаче, способная разве что на сентенции вроде: "Дорогая, представьте, искала сегодня в гардеробной шёлковый платок в тон и наткнулась на галстук моего покойного мужа, который был на нём во время вечеринки в "Ритце" по случаю помолвки наследника X. и молодой, но уже прогремевшей актрисы Y. в 1988 году! Как сейчас помню, присутствовал режиссёр N., его новый фильм только что получил с десяток наград, и мы обсудили возможность сотрудничества за бокалом розе. Был там и критик A., он поздравил меня с получением престижной литературной премией. Ах, как это горько! Вы знаете, от этого галстука всё ещё исходит запах его парфюма от Живанши". Я понимаю, как это несправедливо - горевание для каждого проходит по-разному, да и Дидион не виновата, что в знакомых у неё всё больше влиятельные критики да прогрессивные политики, - но для проницательной эссеистки здесь было на удивление мало точных замечаний и небанальных мыслей. Хотя, конечно, смерть - вещь гораздо более банальная, чем может показаться с ней не сталкивавшимся, и, может быть, "Год магического мышления" и должен быть стать книгой о столкновении с рутиной смерти; но вышла нечаянно книга о рутине богатых людей - которая выглядит как-то так:
All those soufflés, all that crème caramel. Незадолго до "Года магического мышления" я, кстати, прочитала мемуары Пегги Гуггенхайм - вот уж женщина, с детства привычная к роскошной жизни; тоже, кстати, неожиданно потерявшая любимого (второго) мужа (а потом - в точности как Дидион - и дочь); и про быт в её книге тоже было чуть ли не больше, чем про встречи с выдающимися художественными деятелями (тм) - но воспоминания Пегги, в отличие от Дидион, такого раздражения не вызывали. Пегги гораздо богаче, но как человек, кажется, гораздо проще - она знает, что она не выдающаяся публицистка и не совесть нации, и всегда относится к себе с иронией; а ещё она очень хорошо понимает, что а) она чрезвычайно богата и б) это не её заслуга и не её провинность, а невероятно удачно выпавший лотерейный билет. Этой-то прямой простоты Дидион ужасно недостает.

Скорбь, оказывается, для любого человека место неведомое, пока туда не попадёшь. Мы предвидим (знаем), что кто-то близкий может умереть, но не можем заглянуть дальше нескольких дней или недель после этой воображаемой смерти. И характер даже этих нескольких дней и недель мы реконструируем неверно. Мы предполагаем, что внезапная смерть вызовет шок. Мы не ожидаем, что этот шок сметёт всё, выведет из строя и тело, и разум. Мы можем ожидать, что будем потрясены, обезумеем от утраты. Мы не ожидаем, что безумие будет вполне буквальным – что «крепкий орешек» будет надеяться на возвращение мужа и беречь его обувь.

Именно обыденность всего, что предшествовало, мешала мне полностью поверить в случившееся, принять его, признать, усвоить и жить дальше. Теперь я понимаю, что в этом-то как раз не было ничего неординарного. Столкнувшись с внезапным несчастьем, все мы концентрируемся на том, сколь заурядны были обстоятельства, когда произошло немыслимое.

We might expect if the death is sudden to feel shock. We do not expect this shock to be obliterative, dislocating to both body and mind. We might expect that we will be prostrate, inconsolable, crazy with loss. We do not expect to be literally crazy, cool customers who believe their husband is about to return and need his shoes.






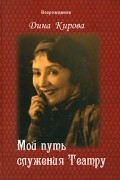







Другие издания