
Ликбез

- 78 книг

 Ваша оценка
Ваша оценкаЖанры
 Ваша оценка
Ваша оценка
Мне хочется говорить не о себе, а следить за веком, за шумом и прорастанием времени. Память моя враждебна всему личному. Если бы от меня зависело, я бы только морщился, припоминая прошлое. Никогда я не мог понять Толстых и Аксаковых, Багровых внуков, влюбленных в семейственные архивы с эпическими домашними воспоминаниями. Повторяю - память моя не любовна, а враждебна, и работает она не над воспроизведением, а над отстранением прошлого. Разночинцу не нужна память, ему достаточно рассказать о книгах, которые он прочел, - и биография готова. Там, где у счастливых поколений говорит эпос гекзаметрами и хроникой, там у меня стоит знак зияния, и между
мной и веком провал, ров, наполненный шумящим временем, место, отведенное для семьи и домашнего архива. Что хотела сказать семья? Я не знаю. Она была косноязычна от рождения, - а между тем у нее было что сказать. Надо мной и над многими современниками тяготеет косноязычие рождения. Мы учились не говорить, а лепетать - и, лишь прислушиваясь к нарастающему шуму века и выбеленные пеной его гребня, мы обрели язык.

Если мне померещился Константин Леонтьев, орущий извозчика на снежной
улице Васильевского острова, то лишь потому, что из всех русских писателей
он более других склонен орудовать глыбами времени. Он чувствует столетия,
как погоду, и покрикивает на них.
Ему бы крикнуть: "Эх, хорошо, славный у нас век!" - вроде как: "Сухой
выдался денек!" Да не тут-то было! Язык липнет к гортани. Стужа обжигает
горло, и хозяйский окрик по столетию замерзает столбиком ртути.
Оглядываясь на весь девятнадцатый век русской культуры, - разбившийся,
конченный, неповторимый, которого никто не смеет и не должен повторять, я
хочу окликнуть столетие, как устойчивую погоду, и вижу в нем единство
непомерной стужи, спаявшей десятилетия в один денек, в одну ночку, в
глубокую зиму, где страшная государственность, как печь, пышущая льдом.
И в этот зимний период русской истории литература в целом и в общем
представляется мне, как нечто барственное, смущающее меня: с трепетом
приподнимаю пленку вощенной бумаги над зимней шапкой писателя. В этом никто
неповинен и нечего здесь стыдиться. Нельзя зверю стыдиться пушной своей
шкуры. Ночь его опушила. Зима его одела. Литература - зверь. Скорняк - ночь
и зима

Рявкнувший извозчика был В. В. Гиппиус, учитель словесности,
преподававший детям вместо литературы гораздо более интересную науку -
литературную злость. Чего он топорщился перед детьми? Детям ли нужен шип
самолюбия, змеиный свист литературного анекдота?
Я и тогда знал, что около литературы бывают свидетели, как бы домочадцы
ее: ну, хоть бы разные пушкинианцы и пр. Потом узнал некоторых. До чего они
пресны в сравнении с В. В!
От прочих свидетелей литературы, ее понятых, он отличался именно этим
злобным удивлением. У него было звериное отношение к литературе, как к
единственному источнику животного тепла. Он грелся о литературу, терся о нее
шерстью, рыжей щетиной волос и небритых щек. Он был Ромулом, ненавидящим
свою волчицу, и, ненавидя, учил других любить ее.
Придти к В. В. домой почти всегда значило его разбудить. Он спал на
жесткой кабинетной тахте, сжимая старую книжку "Весов" или "Северные Цветы"
"Скорпиона", отравленный Сологубом, уязвленный Брюсовым и во сне помнящий
дикие стихи Случевского "Казнь в Женеве", товарищ Коневского и Добролюбова -
воинственных молодых монахов раннего символизма.
Спячка В. В. была литературным протестом, как бы продолжением программы
старых "Весов" и "Скорпиона". Разбуженный, он топорщился, с недоброй
усмешечкой расспрашивал о том, о другом. Но настоящий его разговор был
простым перебираньем литературных имен и книг, с звериной жадностью, с
бешеной, но благородной завистью.
Он был мнителен и больше всех болезней боялся ангины, болезни, которая
мешает говорить.
Между тем, вся сила его личности заключалась в энергии и артикуляции
его речи. У него было бессознательное влечение к шипящим и свистящим звукам
и "т" в окончании слов. Выражаясь по-ученому, пристрастие к дентальным и
небным.













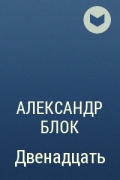


Другие издания
