Особая папка

- 46 книг
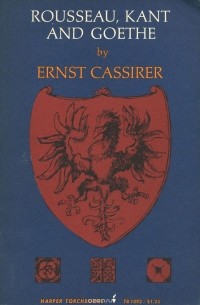
 Ваша оценка
Ваша оценкаЖанры
 Ваша оценка
Ваша оценка
Но в течение шестидесятых годов XVIII в., в ключевой период влияния Руссо на Канта, человечество видело его учителем в другом свете. Для этого периода Руссо был не первым примером человека, восстановившего в правах эмоциональность, апостолом «чувствительности»; он был, как назвал его Кант, «восстановителем прав человечности». Не только Кант, но и Лессинг также придерживался этого суждения. Лессинг, наиболее осмотрительный и мужественный ум своего века, не был расположен к тому, чтобы позволить себе быть преодоленным неистовством эмоций или рассматривать аргументацию в пользу сентиментальности в различных ее проявлениях. Тем не менее, работа Руссо не могла не оказать воздействие на него. В заметки на первое «Рассуждение» Руссо он превозносит «возвышенное мироощущение» и «мужественное красноречие», с которым оно было представлено. И он декларировал, что мы должны испытывать тайное уважение к человеку, который осмелился «вступиться за добродетель против гнета предрассудков», даже если тот и ушел так далеко в своих заключениях.
Кант определенно думал и чувствовал то же самое. Он также не оставил «Новую Элоизу» без симпатии. « В той же манере, в какой он исследует Лейбница, Вольфа, Баумгартена, Крузиуса и Юма,» - рассказывает Гердер о Канте в шестидесятые годы, «он берется за писания Руссо, за его «Эмиль» и «Элоизу» … оценивая их и возвращаясь снова и снова к непосредственному пониманию природы и нравственной ценности человека» . Но Кант определенно читал «Новую Элоизу» совершенно по-иному, в отличие от большинства его современников и читателей последующих времен. Для него исходная точка всего романа лежит не в романтической истории, но в другом, в связанных с «нравственностью» дополнениях, благодаря которым Руссо "изуродовал" свою работу и ослабил художественный эффект; и поэтому он не мог видеть в «Новой Элоизе» только лишь сентиментальный «роман» или прославление страсти. «Естественное состояние Руссо,» - согласно Ирвингу Баббитту, «является только выражением его собственного темперамента и доминирующего желания опустошенности. Его программа практически сводится к индульгенции неопределенного желания, к бесконечному и бесцельному бродяжничеству эмоций с воображением как их свободным помощником» .

Кант не думал, что Руссо намерен отчуждать людей от цивилизации или подвигать их на возвращение к дикости, восхваляя естественное состояние. Он развернуто защищал его от таких подозрений, коим Вольтер придавал столь заостренное и едкое выражение. В его лекциях по антропологии он декларировал, что «разумеется, представляется недопустимым принимать неприязнь Руссо к человечеству, которое осмелилось покинуть состояние природы, так же как и его похвалу возвращения в это дикое состояние. Его работы … в действительности не указывают на то, что человек должен вернуться к естественному состоянию, но что он должен обращать свой взор на него с той позиции, которой он в настоящее время достиг.
Благодаря этой кантовской ремарке становится понятным то, в каком смысле он принимал руссоистскую доктрину «естественного состояния», и в каком направлении он оперировал ей в дальнейшем. В ней он видит - выражаясь в терминах его собственных последующих идей – не конститутивный, но регулятивный принцип. Он рассматривает теорию Руссо не как теорию того, что существует, но как того, что должно быть, не как некоторое предположение того, что было, а как выражение того, что необходимо должно быть, не как элегию, обращенную в прошлое, но как пророчество, направленное в будущее. По-видимому, для Канта ретроспективный взгляд должен подготовить людей к будущему и сделать их наиболее пригодным к его основанию. Это нисколько не должно отчуждать людей от задачи улучшения цивилизации, но должно представить им, как много в ценностях, которые они получают благодаря цивилизации, показного притворства. Для Канта это разрушение точно так же является фундаментальным; от него зависит каждый подлинный порядок ценностей в человеческой жизни и опыте. Для него ни одна из общественных «добродетелей», неважно, сколь эффектными они могут казаться, принципиально не может конституировать подлинное значение «добродетели» самой по себе. «Каждая общественная добродетель является лишь меткой», - как заявляет его антропология, - «и тот, кто принимает ее за настоящее золото, - всего лишь ребенок»

Согласно Гёте, величайшее счастье любого мыслителя состоит в том, чтобы исследовать то, что дозволено знать, и благоговеть в тишине перед тем, что знать не дозволено . Кант думал и чувствовал точно так же. Для него ключ к сверхчувственному, к «интеллигибельному» принадлежит не теоретическому, но практическому разуму. Но даже о категорическом императиве он говорит, что мы его практическую и безусловную необходимость не постигаем: «мы не постигаем практической необходимости морального императива, но мы постигаем его непостижимость; больше этого уже нельзя по справедливости требовать от философии, которая стремиться в принципах дойти до границы человеческого разума».
В этом заключении Гёте и Кант могли согласиться, несмотря на все различия, существующие между их натурами. Затрудняет нам понимание этой связи то, что мы все еще склонны мыслить определенными традиционными и общепринятыми понятиями . Мы видим в Канте кульминацию абстрактной теоретической рефлексии, хотя в Гёте мы видим, пользуясь словами Шиллера, тип «наивного» поэта и художника. Но такого чисто формального контраста здесь недостаточно. Определенно как художник Гёте был «наивным». Он говорил в «Поэзии и правде» о том, что с юности ему приходилось привыкать к пониманию того, что его поэзия – «чистый дар природы». Этот дар природы он не мог подчинить воле, позволив ему свободно проявляться. Он не мог последовать совету Театрального Директора в «Фаусте»: «Поэт – властитель вдохновенья: он должен им повелевать». Когда он пытался, обычно его ждал провал.
Но в этом смысле Гёте-ученый вовсе не был «наивным». Конечно, даже как исследователь он всегда оставался интуитивным мыслителем. Когда ботаник Генрих Фридрих Линк пытался проиллюстрировать средствами абстрактной механической модели его теорию метаморфоза растений, он на то яро возразил. «В таких усилиях остается лишь одна бесформенная сублимированная абстракция, и тончайшая органическая жизнь соединяется с полностью бесформенными универсальными явлениями природы». Ко всему бесформенному и бестелесному Гёте чувствовал внутреннюю антипатию. Глаз, как он говорил самому себе, был органом, посредством которого он владеет миром. Как башенный сторож Линкей, он был «Zum Sehen geboren, zum Schauen bestellt» (Все видеть рожденный, я зорко, в упор. Пер. Б. Пастернака.)