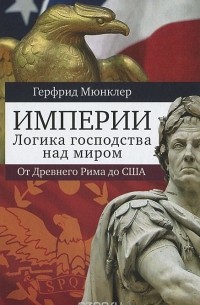
 Ваша оценка
Ваша оценкаЦитаты
 Аноним15 июля 2022 г.Читать далее
Аноним15 июля 2022 г.Читать далееИ Данте, для которого «высшее из благ, однако, то... чтобы люди жили в мире», был убежден, что это было бы возможно, лишь если род людской «будет подвластен весь единственному властителю. ...Так что человечество, если оно будет подчиняться одному-единственному князю, будет более всего близко к Богу. Из этого следует и то, что такое подчинение наиболее соответствует Господнему замыслу. Это равнозначно его благоволению и процветанию». Для Данте без обустройства универсальной монархии, как называли в Средние века и раннее Новое время огромный имперский проект, охватывающий всю Европу, был немыслим прочный мир, потому что там, где властвуют друг подле друга двое, всегда дойдет до ссоры. Тем самым он обращался против аргументации публицистов французского короля Филиппа Красивого и союзных ему итальянских гвельфов, которые оспаривали необходимость универсальной монархии и выступали за систему независимых государств и отдельных городов. Им Данте бросал упрек, что их речи о справедливости лишь голое притворство, потому что они не хотели бы, чтобы кто-либо действительно мог победить по справедливости.
В истории политической мысли Европы было мало теоретиков, которые с той же решительностью, что и Данте, связывали желание мира и организацию имперского порядка.
Лишь Томмазо Кампанелла и — с оговорками — Джованни Ботеро примерно так же указывали на имперский мир, пропагандируя для Европы и, исходя из этого, для всего земного шара такой политический порядок, который мог быть создан под главенством Испании6. Основной же нитью в политической мысли Европы было выражение предпочтения не имперскому «господскому миру», а установленному между государствами «миру по договору»: вместо одной превосходящей силы в центре мирного пространства мир гарантировался коллективными самоограничениями принципиально равных в своих правах акторов. В труде Иммануила Канта «К вечному миру» (1795) это представление нашло свое самое известное и одновременно наиболее эффектное отражение. Концепция межгосударственного мира по договору, который будет охраняться созданием союза-государств, отрицает реализацию мира любой ценой и критикует имперский мир как кладбищенское спокойствие. Политическая несвобода и экономическая стагнация всегда будут той ценой, которую придется заплатить, и эта цена очевидно слишком высока. Кроме того, подобный мирный порядок долго не продержится; спустя некоторое время он будет неизбежно уничтожен мятежами и восстаниями — не в последнюю очередь из-за жестокого ограбления периферии, которое станет необходимо, чтобы иметь возможность вознаградить население имперского центра материальными преимуществами за утрату им его свободы.1211 Аноним15 июля 2022 г.Читать далее
Аноним15 июля 2022 г.Читать далее«Августовский барьер», таким образом, представляет собой сочетание решительных реформ, за счет которых империя заканчивает фазу своей экспансии и переходит в следующую фазу упорядоченной стабильности, длительного поддержания своего состояния. При этом, в контексте циклической теории, дело заключается в продлении ее пребывания в верхнем сегмента цикла, насколько возможно. В случае с Римской империей это в конце концов привело к тому, что республиканское циклическое представление об истории, господствовавшее от Полибия до Саллюстия, сменилось имперским представлением об Roma aeterna** [Вечным городом], о вечной продолжительности существования импери . Если рассматривать реформы вообще, то переход через «августовский барьер» был равносилен глубокому обмену источников власти: востребованность военной мощи существенно снизилась, из-за чего Октавиан и сократил весьма значительно количество войск, а параллельно с этим возрос вес политической, экономической, но прежде всего идеологической власти. Последняя помимо идеологии вечности особенно проявилась в идее мира, Pax Romana, как новой легитимной модели империи: до тех пор, пока существует Римская империя, будет господствовать мир, и чем прочнее она будет, тем более надежным будет мир.
1245 Аноним15 июля 2022 г.Читать далее
Аноним15 июля 2022 г.Читать далееВ известном отношении ситуация в царской России была схожа с положением в Римской империи, только здесь областью, которую цивилизовали, выступал Восток, в то время как по отношению к Западу русские ощущали некоторую неполноценность и пытались выйти на достигнутый там уровень развития. Соответственно на Западе русских воспринимали как полуварварских завоевателей, а на Востоке, напротив, как цивилизаторскую власть. В 1864 г. министр иностранных дел князь Горчаков в циркулярной депеше о вступлении русских в Ташкент обосновал, что положение России сравнимо с ситуацией во всех цивилизованных государствах, конфронтирующих на своих окраинах с грубыми кочевыми народами и потому против своей воли вынужденных к экспансии. Это использовалось в качестве оправдания перед европейскими державами, которые должны были избавиться от подозрения, что Россия вступила на путь империалистической конфронтации с Великобританией, а также как призыв к собственной аристократии поддержать экспансионистский курс в Азии. Однако у населения России завоевания в Азии вызывали лишь ограниченный резонанс, поскольку повсеместно господствовало представление, что русская история протекает и решается в Европе, а не в Азии. Россия — в отличие от Рима — едва ли могла бы составить политический капитал из своих претензий на цивилизованность.
Две стороны русской империи в течение XIX столетия привели к проблеме русского дворянства и интеллигенции*, которые колебались между ориентацией на Запад и раз за разом прорывающейся тоской по Востоку. Известные и многократно описанные противоречия между западниками и славянофилами стали выражением этого конфликта, в котором речь шла в принципе о выборе политических образцов и культурной перспективы на будущее. Другие государства и нации тоже сталкивались с такими дебатами, однако в той антагонистической форме, которую приняли они в России, следует видеть типичную внутриимперскую контроверсию, в которой (по меньшей мере) две стороны великой державы ведут борьбу за власть в определении ее будущего.
Со времен Петра Великого русское дворянство — главный носитель имперскости и «единственный слой общества, который олицетворял ее дух и был в состоянии ее защищать и управлять ею», — должно было играть чуть ли не шизофреническую двойную роль: азиатского сатрапа и европейского джентльмена. Многие русские дворяне и, начиная с конца XIX века, большинство представителей интеллигенции пытались избежать этого, приняв одну из двух сторон, и вынужденно вступали в конфликт с противоположными императивами. Следствием этого стали хронические оппозиционные настроения у многих представителей правящих слоев, что ослабляло имперскую мощь России и в конце концов содействовало крушению империи. Наследовавшему царской России Советскому Союзу на некоторое время удалось совместить две этих перспективы. Тем не менее в итоге цена, которую за это пришлось заплатить, оказалась слишком высока. Советский Союз также провалился на оставленном ему в наследство царской Россией требовании интеграции.167 Аноним15 июля 2022 г.Читать далее
Аноним15 июля 2022 г.Читать далееПо аналогии с Британской империей следует оценивать и имперскую позицию США, чей экономический-потенциал, однако, значительно больше того, который когда бы то ни был у британцев, а их военная мощь так же очевидно превосходит британскую. Однако решающими в вопросе стабильности и долговременности американской империи будет не производительность американской экономики, не глобальная система военных опорных пунктов американцев, которые во многих отношениях напоминают модель военного обеспечения торговых пространств британцами, а лишь способность США направлять потоки капиталов в мировой экономике, регулировать ценность прочих валют по отношению к доллару и готовность определять ритмы мирового хозяйства за счет все новых инноваций. Инструментами здесь являются контроль над мировыми банками и всемирными валютными фондами, а также привлекательность американских исследовательских институтов и технологических центров, обеспечивающая постоянный «приток мозгов» в США. Все это дает уверенность в том, что периферия платит, а США получают прибыль. Стоимость военного аппарата при этом лишь снижает объемы возможной выгоды.
155 Аноним15 июля 2022 г.Читать далее
Аноним15 июля 2022 г.Читать далееИз тех четырех источников власти, которые по очереди были рассмотрены Михаэлем Манном в его «Истории власти», основанной на материалах всеобщей истории, выдающееся значение для начала строительства крупных империй имеют военное и экономическое превосходство в силах. Без них обширные державы построить нельзя; они являются базой для распространения власти. Политическая и идеологическая мощь, то есть оба оставшихся источника власти, по Михаэлю Манну, получают значение лишь в фазе консолидации империи, ведь после завершения более или менее динамичной фазы экспансии следует закрепить достигнутое господство на долгий срок. Теперь начинают сказываться аспекты, которые в начале имперского строительства были не столь важны, — величина затрат, связанных с управлением захваченным пространством, или же готовность населения нести на себе бремя империи.
В течение первой фазы вопрос затрат и приобретений остается на втором плане: либо экспансия сама по себе приносит больше, чем она требует ресурсов, либо же утешаются ожиданиями будущих выгод. Это сменяется переходом к фазе консолидации. Если империя не хочет пережить государственное банкротство или же потерпеть крушение из-за внутреннего сопротивления имперскому бремени, она должна перейти от воображаемого к фактическому равновесию, и это, как правило, означает, что стоимость владычества следует понизить. Самый простой способ заключается в более мощном использовании политических и идеологических ресурсов; прежде всего идеологические рычаги оказывается куда дешевле создавать по сравнению с рычагами военными. И уже поэтому влияние первых нарастает, как только империя выходит к пределам своего расширения, и всякий следующий шаг должен будет привести ее к «империалистическому перенапряжению».155 Аноним15 июля 2022 г.Читать далее
Аноним15 июля 2022 г.Читать далееВ Европе господствовало глубокое недоверие к системам международных отношений, которые практически вынуждали к борьбе за гегемонию. В XX столетии в ходе двух опустошительных войн здесь предотвратили переход одной из континентальных гегемониальных держав к имперскому владычеству на всем континенте. После этого стали искать средства и пути к тому, чтобы не допустить новой версии гегемониальной конкуренции. Так как выяснилось, что всякая война стоит больше, нежели может принести, и даже победитель в военном отношении становится проигравшим политически и экономически , европейцы сделали все для того, чтобы ликвидировать взаимное недоверие с помощью международных договоров, экономических взаимосвязей и особенно за счет внутреннего демократизирования государств, что должно было блокировать роковое стремление к установлению внутриевропейской гегемонии.
То, что стало уроком по опыту Первой и Второй мировых войн, в первую очередь для Германии, могло быть описано и совершенно иначе: необходимость защиты европейского государственного порядка от повторных попыток немцев вновь подвести европейский континент под свою имперскую эгиду и одновременно противостояния новой имперской угрозе со стороны пробившегося к Центральной Европе Советского Союза. При таком подходе главная роль оказалась отведена не ЕС и не ОБСЕ, как должно было бы оказаться в ходе мирного развития Европы после 1945 г. На их место пришла НАТО: смысл ее существования, как лаконично и четко заявлял его первый генеральный секретарь, британец Гастингс Лайонель Исмей, заключался в том, «чтобы подавлять немцев, выбросить русских, а американцев впустить». Внутриевропейская гегемониальная борьба соответственно предотвращалась в первую очередь тем, что роль гегемона передавалась США как внеевропейской силе, а тем самым и послевоенный европейский порядок имел куда меньшую вероятность стать результатом образцового извлечения политических уроков, который мог быть поставлен в пример другим кризисным регионам. Скорее, он стал следствием великолепной ситуации, когда безопасность можно было препоручить американцам.
Гарантии безопасности от великой державы державам средней руки согласно такому подходу являются не только инструментом при образовании и консолидации империи, но и средством для окончания схваток за гегемонию, с помощью которого пацифицируются воинственные регионы и открывается возможность установить в них прочный и мирный порядок. Однако для этого требуется наличие достаточно мощной внешней державы, которая будет настолько заинтересована в мирной стабилизации до сих пор раз за разом сотрясаемого войнами за гегемонию пространства, что сможет дать соответствующие гарантии безопасности*. Если после 1918 г. США уклонились от этой миссии, то после 1945 г. они были к этому готовы. Какие бы преимущества им не обещали — сначала это были лишь затратные политические инвестиции в западноевропейское пространство.
У представления о «благосклонном гегемоне», которое имелось относительно США, мало общего с понятием о влдычестве, получаемом победителем после схватки великих держав. Последнее устанавливалось в ходе соперничества равных, а первый вариант подразумевал статус, скорее, пастуха стада, защищающего от вражеских атак; его благосклонность заключается в том, что он не только охраняет своих подчиненных от угроз извне, но и отказывается от того, чтобы использовать свое преимущество для собственной выгоды. Его отличает главным образом служение другому и куда менее успешное отстаивание своих интересов в отношении прочих. Гегемония в таком понимании является потенцильной имперскостью, которая, однако, из уважения перед правовыми устоями, с учетом морального состояния своего же населения, из политической мудрости или же исходя из любых других, но в любом случае благожелательных мотивов не реализуется в полной мере. Что же касается различия между гегемонией и имперской властью, то с этой точки зрения его определяет лишь сама ведущая держава, и поэтому вполне уместно обращаться к ней с настоятельными апелляциями или же предупреждениями, чтобы убедить ее в полезности гегемонистской и во вреде имперской роли.
Таким образом, данная альтернатива находится в области политической морали или же мудрости, но не в сфере, если можно так выразиться, политической физики, поэтому она опциональна и не предопределена. Нельзя определить, придерживается ли сама ведущая держава или же правящие в ней политики именно такой точки зрения или же там господствует восприятие, диктуемое политической физикой. В любом случае можно исходить из того, что со стороны лидирующей державы наличествует стремление получить еще больший вес, в то время как меньшие державы заинтересованы очертить пространство, в котором должны принимать решения великие державы.154 Аноним15 июля 2022 г.Читать далее
Аноним15 июля 2022 г.Читать далееПретензия на имперскость, таким образом, имела не только внутриполитическую функцию, при которой она пыталась смягчить экономические конфликты при распределении материальных благ за счет причастности каждого гражданина империи к национальной славе. Во внешнеполитическом отношении она также выполняла задачу демонстрации престижа, а значит, и власти, и влияния. И в связи с этим стремление к престижу есть политически функциональный процесс, который не может быть сведен к краткосрочной перспективе анализа его стоимости и выгод. В самом широком смысле это соревнование в престиже может быть воспринято как установление международной иерархии, проходившее без «такого средства решения, как война» (Клаузевиц), — по крайней мере, без войны между прямыми конкурентами за статус великой державы. Это не означает, что такие столкновения проходили в принципе мирно. Войны, которыми они сопровождались, шли, однако, в основном на периферии конторолируемых претендентами пространств, и имперские конкуренты, как правило, следили за тем, чтобы не перейти дорогу другому. Престиж они получали за счет военных побед над уступавшим им как политически, так й экономически противником. Только когда подобная гонка за власть и репутацию оказывалась несостоятельна, имперские периферийные войны, ведшиеся обычно как асимметричные конфликты, перерастали в империалистическую войну, где конкуренты за позицию гегемона уже бились непосредственно друг против друга.
В связи с этим в центре теорий политического империализма оказывается иной вид конкуренции, нежели тот, на котором концентрируются теории экономического империализма. Это конкуренция не капитала за рынки и возможности инвестирования, а государств в борьбе за мощь и влияние, причем учет стоимости и экономических выгод получает куда меньшее значение. Разумеется, стремление к престижу также всегда было и дорогой для вмешательства иррациональных мотивов и ожиданий, однако следует быть сдержанным при ссылках на область иррационального, ведь может возникнуть манера рассмотрения, аналогичная той, при которой затраты и выгоды оцениваются исключительно с точки зрения экономики.
В отличие от государств империи находятся под неформальным давлением требования занимать ведущую позицию во всех областях, где только можно проявить себя и помериться мощью, престижем и дееспособностью. Это неизбежное тяготение к первенству сегодня проявляется не только в военных достижениях или же экономических свершениях, но и в области технологического развития, в сфере науки и, не в последнюю очередь, в спорте и развлекательной индустрии. Нобелевские премии, рейтинги университетов, олимпийский медальный зачет и присуждения «Оскаров» раз за ра-зом становятся тестом, оценивающим имперскую soft power*. Периодические неудачи на этих направлениях тут же воспринимаются как индикаторы начинающегося заката империи и в каждом из случаев учитываются как потеря престижа, за который при следующей возможности вновь пойдет борьба. Однако это лишь невинные сферы, в которых империя находится под постоянным наблюдением, а ее претензии на лидерство вновь и вновь должны обосновываться.
Куда более тяжелым полем испытания имперских притязаний на лидерство является стремление к безусловно передовой позиции в области естествознания и высоких технологий, так как из этого проистекает контроль над мировой экономикой, а также политическая и военная мощь.156 Аноним15 июля 2022 г.
Аноним15 июля 2022 г.Разумеется, шаги, определяемые имперский логикой, никогда не предпринимаются сами по себе, при этом они всегда могут быть искажены или не поняты политическими игроками. К ресурсам имперской власти, без сомнения, относится моральная оправданность. В данном случае, она, конечно, — не мерило политики и является одним из ее средств: логика империи весьма охотно использует моральные оправдания в качестве силового фактора, но никогда не позволит сопоставлять себя с ними.
147 Аноним15 июля 2022 г.
Аноним15 июля 2022 г.Обе интерпретации Фукидида почти в точности соответствуют противоположным оценкам американской политики последних лет: с одной стороны, они ведут к императиву, который восходит к имперской логике; с другой стороны — США упрекают в том, что они будто бы уничтожили свой моральный авторитет за счет безоглядной властной политики, американское влияние в мире будто бы куда надежнее обосновывалось моральным авторитетом, нежели использованием авианосных соединений, крылатых ракет и сухопутных войск.
144 Аноним15 июля 2022 г.Читать далее
Аноним15 июля 2022 г.Читать далееЕсли иметь в виду Землю в ее планетарном измерении, лишь США, да и то только после крушения Советского Союза, могут считаться мировой империей. В крайнем случае, в качестве их предшественника можно было бы назвать Британскую империю. Но на этом закончились бы основания для проведения сравнительного анализа мировых империй.
<…>Безусловно, более пристальный взгляд на власть США показывает, что она проистекает из контроля не только над территорией планеты, но и над мировым пространством в целом. Это связано с наличием управляемых крылатых ракет, которые дают американским военным потенциальную возможность вмешиваться в войны в любой точке Земли, а также со способностью американцев соединять экспансионистские и технологические фантазии человечества и направлять их в определенное русло — от высадки на Луне и постоянного пребывания на околоземной орбите до колонизации Марса. Вследствие этого понятие «мировой» уже приобретает надпланетарный уровень. Трансглобальность — важный источник власти американской империи. Однако это не позволяет говорить о ее уникальности по сравнению с более ранними империями.
143