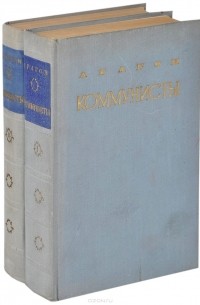
 Ваша оценка
Ваша оценкаЦитаты
 slipstein3 июня 2023 г.Читать далее
slipstein3 июня 2023 г.Читать далееДа разве могут все доводы всех философов в мире поколебать веру тех, кто верит слепо? А главное, главное — кто может сказать, что он действительно не верит, то есть, что он никогда не верил? Ты вот, например, верил в бога… А теперь не веришь… Значит, либо ты раньше заблуждался, либо заблуждаешься теперь… Вере ты можешь противопоставить только неверие… Твоя вера была частью тебя самого, твоего существа, а не какой-нибудь философской системой, и, если ты теперь от нее отрекаешься, разве ты этим не даешь людям оснований усомниться в твоей новой вере — в твоей отрицательной вере?
Жану стало еще досаднее: он хорошо знал, что если вступит в спор, то аббат его забьет, а ведь это ровно ничего не изменит, в бога-то он все равно не верит. Он чуть не сказал аббату, что тот только зря теряет время, потому что его неверие так же слепо, как и слепая вера.
3153 slipstein27 мая 2023 г.Читать далее
slipstein27 мая 2023 г.Читать далееВот возьмем к примеру: все ждут катастрофы. Но когда она разразится, Висконти будет требовать, чтобы немедленно повесили Даладье. Даладье, когда он мыслит здраво, тоже ждет катастрофы, но ему она рисуется в виде обрушивающегося на него дома… В этом он трогательно единодушен с почтеннейшим господином Гитлером — тот направо и налево твердит, что если случится невозможное и его побьют, то он погибнет не иначе, как под развалинами мира… Наш Даладье мельче плавает, только и всего — ему достаточно обратить в прах одну Францию… А я жду, жду с нетерпением пятого акта человеческой трагедии, окончательного краха, из которого не выкарабкаться никому, хотя кровопролитие, возможно, будет не такое уж большое, — я не оптимист… и потом у нас нет широты… жду краха, когда никто уже не разберет, где его руки и ноги, а где — соседские, и чью голову рубить, и чья это голова, которую отрубили… и когда в один миг рухнут века, долгие века человеческой глупости, человеческого самомнения, мнимого всеведения, аптекарских склянок, актов гражданского состояния, статистических данных — цифры колоннами по четыре в ряд направо марш! — милитаризма в душе, гуманизма с трибуны, затаенного клерикализма, школьного атеизма, долгие века бахвальства и карточных домиков, гипотез и менингитов, семейного скопидомства и налогов на холостяков, на мозги, на двери и окна — все полетит к чорту и останутся грязнейшие, чернейшие, кишащие червями, отвратительные развалины, и грядущие поколения, если таковые случайно народятся, разберут на уцелевшей вывеске слово «Пигмалион» и никогда не узнают, что это был универсальный магазин… вследствие чего у моих будущих коллег из Академии изящной словесности и надписей, выйдет легкая путаница между эпохой кофейника со свистком и эпохой поющих статуй, между хламидой и трусиками, между Троянской войной и той, которой я пока не могу дать имя: слишком велик выбор столиц, и хотя у всех у нас от этой мысли дух захватывает, я еще не смею вместе с Симоном или Висконти возопить: Париж, Париж, Париж!..
280 kopi31 августа 2015 г.
kopi31 августа 2015 г.Теперь уж как то неловко говорить, что Вейган отказался от формулы "сражаться до последнего", когда все до последнего отошли от Руана,Вернона, Манта, Понтуаза, Шантильи, Санли, Мо, Мрнмирайля.. Но поскольку речь идет о подступах к Парижу, он решает передать командование этим районом генералу Эрингу...
2176 slipstein15 ноября 2023 г.Читать далее
slipstein15 ноября 2023 г.Читать далееНу, если так… — Жан задумался. Если это на самом деле так, то он считает, что коммунисты были правы, не встав со своих мест. Он тоже бы не встал. Но как же все произошло? Из газет это было не совсем ясно. Пасторелли уточнил: там были Гренье, Мишель, Гюйо и Мерсье… Все эти имена ничего не говорили Жану. Пасторелли медленно повторил: Гренье, Мишель, Гюйо, Мерсье… как будто хотел вдолбить эти имена в голову приятелю перед экзаменом. И через день он снова повторил эти имена, потому что в четверг, на следующем заседании… Там были другие мобилизованные в армию депутаты из коммунистической фракции, которые сменили прежних, ибо палата специальным голосованием исключила тех четырех на несколько заседаний. Как воодушевился Пасторелли, рассказывая об этом Жану! Жан решил, что излишне да и неделикатно будет спрашивать его, откуда он все узнал. На этот раз на заседании присутствовали Фажон, Сесброн… — Да ты скажи толком, ведь я их не знаю. — Газеты приводили отрывки из речи Эррио: «Господа… Далеко на севере маленькая нация с героизмом, удивляющим весь мир, борется против режима, который пытается раздавить слабые народы и прикончить раненые страны». При этих словах все присутствующие поднялись с криками: «Да здравствует Финляндия!» — Как? — спросил Жан, — и коммунисты тоже? — Конечно, нет, так же как и в прошлый раз. Но так, понимаешь ли, изображают дело газеты. Оппозицию удалили из парламента, и теперь получается, что, дескать, все «одобряют единодушно», даже когда кое-кто и не думает подыматься с места. — «Ее победа, — распинался Эррио, — то есть победа Финляндии, является первой победой духа над материей!» Ну и хватил! Линия Маннергейма, американские самолеты, английское вооружение, немецкие инструкторы, зять Геринга, поступивший в финскую авиацию, — все это видите ли, «дух»! Один только дух! И надо полагать, что нас ожидает еще одна «победа духа над материей», — парламентские махинации направлены на то, чтобы лишить коммунистов депутатских мандатов; известно, что коммунисты суть мерзкие материалисты, а законопроект против них составлен великим «носителем духа» Кьяппом…
139 slipstein15 ноября 2023 г.Читать далее
slipstein15 ноября 2023 г.Читать далееЖан не соглашался с доводами Пасторелли, который непременно желал лечить людей определенного класса, и только их. У врача, по мнению Жана, должен быть совсем иной идеал. Но когда он поделился своими мыслями с Пасторелли, тот рассмеялся. Лечить всех! Да к услугам богатых любые врачи, которые уже набили себе руку в бедных кварталах. Жана шокировали такие речи, и в один прекрасный день он вдруг спросил: — А ты, случайно, не коммунист?
Ах, значит, вот к чему ты клонишь, голубчик! На сей раз Пасторелли вперил пристальный взор в глаза Жана:
— Ишь ты, какой любознательный! Разве я тебя спрашиваю, как зовут любовника твоей сестры?
Жан опешил. При чем здесь любовник сестры? Ну, ладно, не будем говорить о политике… И все же каждый раз они снова начинали говорить о политике. А сегодня это получилось само собой. Вчера, во вторник, в палате разыгралась уже всем известная сцена. На заседании присутствовали депутаты-коммунисты, мобилизованные в армию. Они не поднялись с места, когда старший по возрасту депутат предложил встать в честь солдат, сражающихся на фронте. А ты как, Жан, думаешь, правы они или нет? На этот раз, инициативу взял в свои руки Пасторелли.
Вопрос, поставленный ребром, явно смутил юного Жана де Монсэ. Он, конечно, встал бы, из-за своего брата Жака. Но, во всяком случае, если эти люди не встали, у них, верно, были на то свои причины. Ведь куда легче встать вместе со всеми, чем остаться сидеть… Вообще обычно прав тот, кто выбирает более трудный путь. И понятно, раз коммунисты выбрали более трудный путь, ими руководили твердые убеждения, а Жан уважал твердые убеждения. Вот почему он не мог прямо ответить на вопрос Пасторелли. Он не знал, какими соображениями руководствовались коммунисты.
— Соображениями?.. — насмешливо фыркнул Пасторелли. — Они против этой войны, не могли же они присоединиться к тем, кто за эту войну, кто посылает других сражаться за такие цели, которые отвергаются коммунистами… Они остались сидеть не потому, что они против солдат, а потому, что они против тех, кто посылает солдат на бойню.133 slipstein15 ноября 2023 г.Читать далее
slipstein15 ноября 2023 г.Читать далееПрежде чем начать разговор с Ивонной, Жану хотелось хоть немного набраться сведений. Теоретических сведений. Например, Маркс. Он в жизни не читал Маркса. В продаже, впрочем, нет ничего из его сочинений. Вы только представьте себе, некий молодой безумец зимой тридцать девятого — сорокового года заявляется в книжный магазин и вежливо адресуется к продавщице: «Нет ли у вас, мадам, сочинений Карла Маркса?» Его бы просто выставили вон. Словом, подходящих книг не было нигде, даже у букинистов на набережных. Полиция господина Даладье не жгла книг. По словам Пасторелли, полицейские просто конфисковали запрещенные книги, пускали их под нож или же складывали грудами в подвале префектуры, где они неминуемо должны были погибнуть от сырости, так как рядом протекала Сена… Вот эти-то разговоры и возбудили интерес Жана и к Пасторелли и к Марксу. Оказалось, что о Марксе молодой де Монсэ знает гораздо меньше, чем о Жеане Риктюсе. А ведь подумать только, какую роль марксизм играет в современном мире, — даже если считать его измышлением дьявола, как утверждал Мерсеро. Непростительно не знать, что же это такое. А ведь Жан даже толком не знал, что такое профсоюз… Все говорят о коммунистах. В сущности, Жан ничего, буквально ничего не знал о коммунистах… Он так и сказал Малу Маслон: — Только и слышишь, что о коммунистах да о коммунистах, а чего хотят коммунисты? Из чего они исходят? — Малу презрительно пожала плечами: нашел о чем думать! А не найдется ли в ее библиотеке на авеню Фош соответствующей литературы?.. На следующий день Малу притащила ему книжонку Прудона «Литературные майораты», одну книгу Жореса и краткую историю профсоюзного движения. Больше она ничего не откопала. Нельзя сказать, чтобы эти книги очень увлекли Жана. Жан — и в этом заключалась главная трудность — так и не мог себе представить, что такое профсоюз. Пасторелли здорово подтрунивал над Жаном, когда тот признался в своем невежестве. Признался Жан и в том, что, в сущности, он не понимает, в какой мере синдикализм Пелутье мог объяснить нынешнее положение вещей… В голове у Жана перемешалось все: профсоюзы, Интернационал, забастовки, Бланки, о котором он нашел специальную брошюрку в магазине на улице Месье-ле-Пренс, тейлоризм, система Бедо, непротивление, корпоративизм… Как распутать этот клубок? Конечно, ему мог бы помочь Серж Мерсеро. Недаром отец Сержа был секретарем Конфедерации французских предпринимателей. Если бы только Серж пожелал… Но Серж не желал возобновлять разговор, который произошел между ними в первые месяцы знакомства и в котором осталось столько загадочного для Жана де Монсэ. Серж твердил, что все это ужасная скучища, что пусть об этом беспокоится полиция, пусть она наведет порядок, и начинал разглагольствовать о свободе личности, о том, что жизнь — приключение, о духе сообщничества. Жану все это до смерти надоело. К тому же ему решительно не нравилось, когда в его присутствии говорили о любви в слишком развязном тоне.
147 slipstein15 ноября 2023 г.Читать далее
slipstein15 ноября 2023 г.Читать далееПрости, Луиза… ты очень любишь мужчин?
Вот так вопрос! В устах кого-нибудь другого еще куда ни шло. Но в устах Сесиль! Луиза начинает хохотать громким, пронзительным, театральным смехом. Что это, ответ на вопрос Сесиль, или бессознательное, ну, конечно, бессознательное поощрение лейтенанта, который как раз наливает сельтерскую воду в свой стакан? Отсмеявшись, Луиза задумалась, посмотрела на кузину, открыла сумочку и достала губную помаду. — Мужчины… — сказала она, подмазывая перед зеркальцем верхнюю губу. — Мужчины… это звучит очень многозначительно, а стоит часто очень немного! — Тонкие ноздри ее раздулись. Можно говорить с Сесиль откровенно? Не только о книгах и концертах… поймет она? Луизе гораздо больше, чем Сесиль, подходило бы быть дочерью госпожи д’Эгрфейль. В семье Сиври белокурыми были сыновья, а дочь — брюнетка. Полногрудая, с округлыми плечами, узкими бедрами, тонкими ногами и копной кудрей на голове Луиза была не так уж красива, но чувствовалось, что она горит огнем… — Такой вопрос неспроста, — продолжала она. — Мне жаль Фреда, он тебе надоел, детка?
— Я не о себе говорю, Луиза, я спрашиваю сейчас о тебе…
Баронесса Геккер поправила свою черную фетровую шляпку в виде перевернутой туфли, державшуюся на ее шевелюре с помощью голубой вуалетки. Очень соблазнительно поговорить о себе. — Чем бы, по-твоему, я наполнила жизнь если бы не было мужчин? Ты ведь сама знаешь, что Поль-Эмиль… он сделал мне ребенка и считает, что на том его обязательства кончились и по отношению ко мне, и по отношению к свету. Он и женился-то на мне в угоду свету… значит, о нем говорить нечего. Есть такие дуры, которые обожают приемы, для которых главное в жизни — прочесть в «Вог», что на премьере балета госпожа X. была в очаровательном платье из органди. У других есть какие-нибудь таланты, например мадемуазель Тион де ла Шом — чемпионка по гольфу… Что касается меня, то природа наводит на меня тоску, спорт вредит цвету лица. А жить в поместье Геккеров, на уикэнд принимать гостей из Брюсселя и терпеть родителей мужа, которые кичатся своим винным погребом и приглашают соседей к себе на охоту, — нет, покорно благодарю! Говорят, наши бабушки занимались рукодельем. Возможно, для них это имело смысл… Скажи, разве ты не любишь нравиться? Когда ты ловишь на себе взгляд мужчины, разве это не дает тебе такого ощущения жизни, как ничто на свете?.. Ведь это единственное, что не лжет. Пусть оно будет мимолетно. Но пока нравишься, так уж нравишься. — Она оглядела кузину и у нее невольно вырвалось: — Да еще с твоей фигурой…
— Неужели в жизни нет больше ничего? — спросила Сесиль.
— Ну как же, тебе ответят, что есть вино, карты, деньги. Но ведь это не для нас! У меня не было большого горя — чего ради я стану напиваться? А деньги — так, в конце концов, для чего-нибудь существует же Поль-Эмиль! Азарт — это для старух, достаточно заглянуть в Монте-Карло. Куда женщине девать время? Ты скажешь: Колетта… Ванда Ландовская… мужчины тоже не все Томасы Манны или Стравинские. И все-таки, у них есть жизнь. А у нас есть мужчины — на этом мы отыгрываемся. Помнишь, в прошлом году, в Эден-Роке, красавчика-бразильца, который так хорошо нырял? У некоторых женщин нехватает ума относиться к этому легко, не затевать целой истории. Он был глуп, как пробка, но до чего же хорош! Нужно уметь только отведать плода и не задерживаться. Меня ни разу никто не бросил. А это самое главное. Иногда думаешь вот этим можно удовлетвориться на целый сезон… но кругом столько товара! Надо вовремя выбросить платье, пока не увидела его на всех приятельницах — надеюсь, это ты знаешь? Вообще мужчины…Сесиль проследила за ее взглядом. Летчик встал и расплачивался. Луиза сразу отвернулась и, казалось, искала на кого бы теперь обратить внимание. Она сказала:
— Помнишь, в «Короле Лире»? Одна из дочерей короля, не то жена герцога Альбанского, не то Корнуэльского — я уж не помню — так она берет себе в любовники побочного сына Глостера и, расставаясь с ним, восклицает: О the difference between man and man! Как непохож мужчина на мужчину… Я знаю, ты любишь Бодлера. А я за одну эту шекспировскую строчку отдам всего Бодлера… Да впридачу Евангелие и мою бессмертную душу…
Вошел газетчик, официант собрался было его выпроводить, но кто-то окликнул его с другого конца кафе.
— Что ни говори, а читать газеты стало просто невозможно, — сказала Луиза. — Только и пишут, что о мерах против коммунистов, а о том, что нам из-за воздушных тревог каждую ночь приходится проводить в подвале, — ни звука!.. Как там у тебя, на авеню Анри-Мартен? К счастью, у нас в доме подвальное помещение прямо как второй дом, только под землей, и тянется оно чуть не до самой Сены. Одно неприятно — полиция потребовала сведения, какие у нас погреба. Потом оттуда явились, все обмерили и наклеили объявление: «Убежище на пятьсот человек». Прошел слух, что это лучшее убежище в квартале, и все теперь рвутся к нам. Ужас, что делается каждый раз, как объявят тревогу. Всякие консьержки, мясники, молочницы со складными стульчиками, со своим скарбом и вязаньем… Как их выставишь? Невозможно — поднимется крик. Вдобавок на днях туда прошмыгнул какой-то репортер и расписал в юмористических тонах и помещение, и людей, ничего не пощадил — даже мой night gown… позволил себе какие-то глупые намеки насчет нашего Ла тура: сносим ли мы его вниз или оставляем в гостиной…
— В самом деле, пожалуй, рискованно держать его дома…171 slipstein2 августа 2023 г.Читать далее
slipstein2 августа 2023 г.Читать далее— Украинец прошептал что-то по-своему; все равно никто не поймет. Сейчас почти все его соотечественники были в наряде. Вдруг он закашлялся, вынул платок, сплюнул. Привычным жестом чахоточного развернул платок и посмотрел: маленькие пятнышки крови… Петильон не унимался: — Если бы на Востоке открылся фронт против них, ты бы, небось, пошел добровольцем…
— Где открылся бы фронт? — растерянно спросил Кремер.
— Неважно где, — ответил Петильон. — Ну, в Сибири, скажем, или на Кавказе… помощь финнам…
Гавриленко промолчал. Он долгие годы свирепо мечтал о войне, его родной город трижды переходил из рук в руки, от поляков к русским. В Берлине его, Гавриленко, принимал сам гетман Скоропадский, и Гавриленко предложил ему свой план… Финляндию он знал как свои пять пальцев. Он был там по заданию… И все же сейчас он ничего не ответил. Что-то кипело, бродило в нем… Что-то, чего он не мог бы объяснить никакими словами. Да и кому объяснять? Петильону или Кремеру?.. Чорт! Он налетел на стол… В этих клетушках не повернешься, всюду навалены тюфяки, двери всегда настежь, хочешь перекинуться словом с первым этажом, — пожалуйста, кричи!
— Где открылся бы фронт?.. — монотонно твердил Кремер. — Где?.. — Он все повторял «где», но уже не тоном вопроса.
Складывая поленья, Кремер засадил себе под ноготь занозу и теперь пытался вытащить ее зубами, сосал палец, мял его. Фронт на Востоке. В первый раз он попробовал вдуматься в эти слова: фронт на Востоке. Но в таком случае… финны…
— Значит, — сказал он нерешительно, — финны сейчас — наши союзники?
Гавриленко расхохотался во все горло.
— Ты что смеешься? — спросил Кремер.
— Не все же плакать… Что, братец, совсем с панталыку сбился? То был за большевиков, а теперь… Того и гляди очутишься вместе с господином Даладье в лагере маршала Маннергейма… Так, так! Родина, родина… ты думал, она одна, раз и навсегда дается? А ты сам, Кремер, откуда? Из Польши, из Венгрии? Вот теперь ты — француз! Где добро, где зло? Я уж столько раз менял родину… Был русским, поляком был… сначала на немцев надеялся, потом на французов, на англичан… А теперь, как бы тебе это объяснить? Такого еще со мной никогда не бывало.
Он громко захохотал, потом смех перешел в кашель. Пришлось уложить его на тюфяк. В углах губ проступила розовая пена. Он все твердил: — Родина… родина!.. — Хозяин тюфяка раскричался: — Забирайте его отсюда! Что ж он, так и будет здесь харкать кровью? Это, ведь, зараза, а потом мне ложиться прикажете? Может, и я еще заболею из-за него!
— Да замолчи ты, слушать противно, — сказал Кремер. Он принес белогвардейцу кружку воды и думал при этом: кого я пою водой? Белогвардейца. Выходит, что маршал Маннергейм теперь союзник русским белогвардейцам… Он растолкал теснившихся вокруг тюфяка солдат, чтобы Гавриленко было легче дышать. Присел на тюфяк рядом с ним. Чахоточный весь покрылся болезненным, холодным потом. Кремер колебался с минуту, потом достал из кармана платок и вытер больному виски: — Ну, полегчало тебе? — Украинец ничего не ответил, только закрыл глаза и улыбнулся маленькому сутулому еврею. И подумал: кому я улыбаюсь? Еврею…
— Лежи спокойно, — сказал Кремер, — отдохни как следует. Подожди, вот когда тебе полегче будет… мы поговорим с тобой насчет родины, а? Поговорим насчет родины…164 slipstein2 августа 2023 г.Читать далее
slipstein2 августа 2023 г.Читать далееДумаете, он не хочет катастрофы? Правда, он-то, по-моему, жаждет краха, потому что ему страшно провалиться с новым романом после блестящего дебюта и премии… Чужое несчастье — для нас оправдание, а когда оно согласуется с нашими собственными бедами — тут уж два шага до ореола мученичества. Да, катастрофа!
Неподалеку от них Люк размешивал сахар в чашке. Он недоумевающе посматривал на Сесиль и только краем уха слушал то, что говорила ему госпожа де Сен-Гарен. Он был растерян — положение неясное.
— Катастрофа! Я призываю, призываю ее! — гремел академик. И с размаху стукнул себя в грудь толстыми, как сосиски, пальцами с зажатым в них носовым платком.
Ему уже не было удержу. — Мы мессианисты бедствий, мазохисты разрушений, мы ищем лоз для самобичевания, мы распахиваем двери навстречу грому и молнии: покорнейше просим нас испепелить! Одни во имя добра, другие во имя зла… Ведь мы, прежде всего, моралисты: homo politicus — великий моралист… Недаром…139 slipstein22 июля 2023 г.Читать далее
slipstein22 июля 2023 г.Читать далееГосподин доктор, вот этого типа вы случайно не знаете?
И он показал на бесцветного худощавого блондина, который, напрягаясь, с трудом толкал тяжелую тачку. Из коротких рукавов торчали покрасневшие от холода кисти рук. На нем был серый пиджачок, туго перетянутый солдатским ремнем, на боку болтался противогаз, берет съехал на затылок, открывая начинающую лысеть голову, волосы на ней словно редеющий лес.
— Вот этого? Да, знаю… Это Гавриленко… Он из вашей же роты… Туберкулезник. Только треть легкого осталась. Если еще побудет тут — ему крышка.
— А чего он ждет?
— Ждет, чтобы я его эвакуировал. Но это не так-то просто. Мы уже свою норму заполнили. Да и полковник считает, что я им слишком мирволю…
Он захохотал. Блеснули прекрасные ровные зубы. Дюран задумался: — Гавр… как вы сказали… Гавренков?
— Га-ври-лен-ко… Украинец… Работал на радио. Передачи на украинском языке. Бывший сотрудник Горгулова по газете «Набат». Принял французское подданство при последнем министерстве Тардье… Вообще малый неплохой, патриот… славянская душа!
Гавриленко вез на тачке дрова для своего взвода. Взвод недавно перевели сюда из Ферте-Гомбо и разместили в старом бараке где-то на задворках. Украинец поволок свою тачку по выбитым камням плохо замощенного двора и, хлюпая по талому снегу, добрался до дверей барака: — Эй, Бистуй! — Бистуй был взводным поваром. Сейчас он варил требушину в сарайчике на заднем дворе. Это был толстый, очень бледный мужчина, который вечно ходил как в воду опущенный и ужасно боялся, как бы не переработать. И на сей раз, не дав Гавриленко договорить, сразу заявил: — Нет уж, уволь, друг. А кто будет обед варить? — Гавриленко опустил тачку и стал жадно вдыхать холодный, обжигающий воздух. На щеках у него выступило два яркорозовых пятна. Он ничего не ответил повару и стал сбрасывать с тачки дрова. Не успел он сложить и пяти поленьев, как к нему присоединился чернявый человечек, сильно сутулый и в очках. — Спасибо, Кремер, — сказал Гавриленко. Услужливый этот еврей.
Взвалив на спину по вязанке дров, они поднялись на второй этаж, в спальню, и встретили тут радиста Петильона, красивого, немного вялого парня в яркосиней шелковой рубашке. Петильон прошел мимо них, не останавливаясь, и бросил через плечо: — Готово дело, русские начали воевать! — Гавриленко выронил свою ношу, дрова посыпались на пол. — Как! Уже?
— Поосторожней ты, ради бога! — завопил Кремер, которого ударило поленом по ноге. Но Гавриленко было не до него.
— Это официально сообщается? Ты сам слыхал, Петильон?
Петильон скорчил многозначительную мину. Он соизволил даже нагнуться за поленом и, приблизив свое лицо к самому лицу Гавриленко, прошептал: — Сегодня утром они начали наступление по всей финляндской границе…
— Финляндской? Что ты мелешь? При чем тут Финляндия?
— Потому, что они воюют с Финляндией…
— Ого! А фрицы что?
— Фрицы пока молчат. Просто передали сообщение.
Кремер сразу сообразил: — Значит, они воюют с маленькой Финляндией? — и ужаснулся. Гавриленко посмотрел на него с презрительной жалостью. Он хотел что-то сказать, но удержался. Внутри у него все горело, и не только больные легкие. Он был как пьяный. Финляндия!.. А этот болван Кремер еще смеет ныть. Подумаешь, какой финн нашелся. И сейчас же началось: финская музыка, Сибелиус, финские спортсмены, Нурми… Кремер прямо как по газете шпарил.
— Ты, кажется, не такой уж обожатель большевиков? — спросил Петильон.
Гавриленко ответил: — Они убили моего брата, отца и двух дядьев… — Радист прищелкнул языком… — Н-да!147