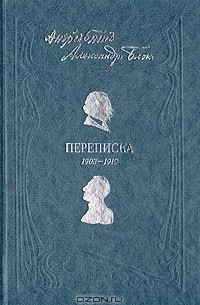
 Ваша оценка
Ваша оценкаЦитаты
 slipstein23 ноября 2018 г.
slipstein23 ноября 2018 г.Белый Блоку
Кстати о лекции. Штейнер говорит, что в то время, как каждую расу, или группу рас ведет тот или иной Гений Покровитель (Архангел), славянство не ведет никто. Но странное дело: оккультное исследование над эфирным телом славянина показывает, что в нем вписано имя самого Христа. Отсюда явствует, что славянство, в частности Россию, после громадной тяжести, которую еще всем нам предстоит пережить, поведет сам Христос, а не кто-либо другой.0185 slipstein23 ноября 2018 г.
slipstein23 ноября 2018 г.Белый Блоку
У меня в деревне на столе лежит громадная книга « Свобода и Евреи», принадлежащая... Шмакову (??). Ты не думай, что я стал черносотенец.
Но сквозь весь шум городской и деревенскую задумчивость все слышней и слышней движение грядущее рас. Будет, будет день, и народы, бросив занятия, бросятся друг друга уничтожать. Все личное, все житейски пустое, как-то умолкает в моей душе перед этой картиной; и я, прислушиваясь к шуму времени, глух решительно ко всему.0136 slipstein23 ноября 2018 г.Читать далее
slipstein23 ноября 2018 г.Читать далееБелый Блоку
Читаю «Войну и Мир», и мне ясно: 1912, 1913, 1914-ые годы еще впереди. Мы живем в эпоху Аустерлица; и поступь грядущих вторжений видимых (монголы, евреи), невидимых осознаем одинаково («Куликово Поле»).
Мы оба любим Россию...Герои «Войны и Мира» сначала танцевали в зале у Ростовых, потом вызывали друг друга на дуэли, но... все сошлись на полях сражений. Все были под одним Бородином.
Так и мы.
Может быть, действительная наша встреча еще далека, но даже сознание возможности этой грядущей встречи есть уже начало всяких малых встреч, отрешенных от психологии.
Еще раз повторю: я встречаюсь с людьми теперь только воодушевленный одним сознанием: нужно, чтобы уделы русские положили оружие: скрип повозок татарских уже слышен, а удельные князья еще ссорятся.
Да не будет Калки!0121 slipstein23 ноября 2018 г.Читать далее
slipstein23 ноября 2018 г.Читать далееБелый Блоку
Пусть мы разные, но то «психология», но Русь, будущее, ответственность — не «психология» вовсе, и как же не радоваться; мы — русские, а Русь — на гребне волны мировых событий. Русь чутко слушает и ее чутко слушают. ЯТы, мы не покинуты в сокровенном; за нами следят благие силы, не покинут нас, поскольку мы — русские.Тише, скрытнее, медленнее, важнее — вот мое желание. А там, в великом деле собирания Руси, многие встретятся: инок, солдат, чиновник, революционер, скажут, сняв шапки: «За Русь, за Сичь, за козачество, за всех христиан, какие ни есть на свете»... И от поля Куликова по всем полям русским прокатится: «За Русь, за Сичь, за козачество, за всех христиан, какие ни есть на свете»...
Аминь.0109 slipstein23 ноября 2018 г.Читать далее
slipstein23 ноября 2018 г.Читать далееБелый Блоку
Ласковая волна прилетела. Плеснуло в лицо Финским Заливом — морем.
Ты был в лодке. Ты указывал веслом на зорю: зоря была золотая. От весла
капали смоляные, искрящиеся капли. Сильными движениями рук Ты оттолкнулся веслами, когда я прыгнул в лодку с края земли. У меня закружилась голова. Я лежал на дне лодки. Было приятно и радостно видеть оттуда Твой четкий профиль, обложенный золотом: это было золото зори. Ты указывал путь. Было уютно в лодке с Тобою, милый, милый брат. Это все я как бы увидел, и захотелось Тебя обнять — обнять и поцеловать. Море было беспредельное и такое знакомое, сонное.Потом мы увидели Ходящую по водам. Сейчас я не знаю, видел или не видел я такой сон; но я знаю, что у меня есть любимый брат. Какой я счастливый!
0108 slipstein22 ноября 2018 г.Читать далее
slipstein22 ноября 2018 г.Читать далееБлок Белому
Я пишу так, Ты знаешь, отчего. Но разница между декадентами и мной есть. Например, мне декаденты противны все больше и больше. Затем, — они не знают, а я «спокойно знаю» (и это бывает, правда), и притом «что», а не «как». Объяснить этого никогда не смогу и даже на словах склонен отречься от этого, когда заставят объяснять. Если Ты будешь искать кощунств в моих словах, то найдешь их слишком много, и, может быть, достаточно тяжелых, чтобы хватить ими меня по голове и убить. Мои мозги элементарны до того, что не выдерживают и более слабых давлений, чем Твои. Раз поймут много, а раз — ничего. Нет конца моей недисциплинированности в том, что причастно глубине, — а также «неподвижности», как Ты ее называешь. Но отсутствие дисциплины хуже, чем неподвижность.0110 slipstein22 ноября 2018 г.Читать далее
slipstein22 ноября 2018 г.Читать далееБлок Белому
Я вообще никогда (заметь, никогда, даже когда писал все стихи о Прекрасной Даме) не умел выражать точно своих переживаний, да у меня никогда и не бывало переживаний, за этим словом для меня ничего не стоит. А просто, беспутную и прекрасную вел жизнь, которую теперь вести перестал (и не хочу, и не нужно совсем), а, перестав, и понимать многого не могу. Отчего Ты думаешь, что я мистик? Я не мистик, а всегда был хулиганом, я думаю. Для меня и место-то, может быть, совсем не с Тобой, Провидцем и знающим пути, а с Максимкой Горьким, который ничего не знает, или с декадентами, которые тоже ничего не знают.0109 slipstein22 ноября 2018 г.
slipstein22 ноября 2018 г.Блок Белому
Видел во сне, что мы с Тобой — в росистом и тенистом лесу — зашли вдвоем далеко и отстали от остальных прогуливающихся. Тут я принялся показывать Тебе, как я умею летать всяческими манерами, и сидя и стоя на воздухе; ощущение было приятное и легкое, а Ты удивлялся и завидовал. Так продолжалось долго и не хотелось прерывать. Осталось воспоминание сладкое.0103 slipstein22 ноября 2018 г.
slipstein22 ноября 2018 г.Белый Блоку
Каждому человеку полагается что-нибудь делать. Я — ничего не хочу делать. Я — сам. Я — человек, и как таковой я — самоценен. А они все пристают ко мне — «Отчего вы не пишете?» и т. д. Я сейчас без дела. Хожу медленно по улицам. Молчу и молчу. И буду впредь бездельником. Я не хочу дела. Бездумно спокоен, уверен в себе. Гуляю и сплю — вот и все. Но музыка, мне звучащая, со мной.0115 slipstein22 ноября 2018 г.Читать далее
slipstein22 ноября 2018 г.Читать далееБелый Блоку
А недавно был ужас.
Не знаю, сумею ли рассказать «это» — ужасное «это», собирающееся меня пронзить бычьими рогами в лабиринте. То яростно смеется и блещет огоньками глаз бычья морда в ночной пасти лабиринта, то — о ужас — нежно мычит и лижет руки кровавым языком, уговаривая добровольно сдаться, бросить меч, с которым я сознательно вступил в лабиринт, и поселиться здесь навеки.Не знаю, сумею ли рассказать это.
Каждого человека с рождения до смерти сопровождает его музыкальная тема. В мою тему входит один мотив ужаса, который я должен преодолеть, иначе он погубит меня. Детство мое выросло из ужаса. Когда я еще не сознавал себя, я уже сознавал, помнил свои сны. Это всё были Химеры. Помню два сна. Они определили мелодию ужаса, всю жизнь преследовавшего меня. Один: будто мы сидим в садике. Вдали ворота, увенчанные не то крестом, не то иконой (потом оказалось, что это был церковный садик, принадлежавший Св. Троицкой церкви, что на Арбате). Мы сидим на лавочке. Как будто весна. Меня держат на руках. Уютно. Вдруг в ворота ползет на четвереньках бледный, бесконечно длинный человек, припадая на землю. Вползает в ворота, огражденные иконой, наподобие змеи или ящерицы. У него рыжие бакенбарды, гнилые зубы (он смеется, кивая мне) и фуражка, какие носят служащие из Казенной Палаты. Я замер... И дальше ничего не помню.
Другой сон: помнится мне, я видал его не раз. Комната. Горит свеча. В глубине мрак. Там всё комнаты: кажется, что нет им конца. Дверь, точно пасть, точно вход в лабиринт. За столом старушка бабушка (теперь покойная). У нее была лысина и она носила головной убор. Но вот она сидит без убора — лысая, и набивает папиросы, сотню за сотней, обвязанной в бумажный кружочек. Я беру бумажный кружок и хочу им щелкнуть, но лысая бабушка угрожающе предостерегает, чтоб лучше я уж не щелкал, а то беда. И я понимаю, что это так. И ночная пасть лабиринта угрожает. Но что-то приказывает мне щелкнуть — и... в глубине черных комнат на стук, раздавшийся оттого, что я щелкнул бумажкой, раздается ответственный стук. Еще. И еще. И уже это шаги. Идут. Тут открывается мне, что если я не добегу до кровати, не закрою голову одеялом, произойдет несказанный ужас, ибо шаги раздадутся уже рядом и из лабиринта, из черной пасти выйдет «это». И вот я сознаю, что уже это все бывало, и что надо бежать. Помнится — десятки раз я уже спасался. Но я медлю. А шаги ближе — ужас подходит. Мгновение — и из лабиринта вырисовывается коренастый, низкорослый мужичок с красным мясистым лицом, в золотых очках, воспаленно-изумленным не злым лицом с золотой бородкой и толстым животом. Руки сложены на животе, пять красных пальцев торчат из рукава сюртука с правой стороны, пять красных пальцев с левой. Красные пальцы сплетаются, и «это» — добродушно посмеивается. Только в этом смехе больший ужас, нежели в злобе (впоследствии я узнал, что это был доктор Родионов, в детстве лечивший меня от скарлатины).Сначала было «это». А потом уже начинаю сознавать себя маленьким мальчиком, влюбленным в уютную беспредметность и ласковую грусть. Гувернантка немка читает о королях, легендах, феях, читает из Гёте, из Уланда, а я у нее на коленях засыпаю.
Вот моя музыкальная тема.
Когда я подростал (мне уже было 6 лет), вырос день, и днем ужасы отхлы- нули и обуревали ночью. Каждую ночь говорили (я не помнил хорошенько), что я кричал, будто пришел «Афросим». Я только помнил иногда, что все вокруг меня обрывалось, или что я зашел в подземелья (в лабиринт) и уже не вернуть- ся мне обратно, и тогда приходило «это». И я начинал кричать «Афросим», и меня успокаивали. И ходили какие-то силуэты, и когда я приходил в себя, это были: мама, гувернантка. Впрочем, раз мне казалось, что я видел Афросима, и он почему-то напомнил мне доктора Родионова. А днем было солнце, и я бегал по аллеям в платье с длинными волосами, и меня дразнили, что я «девчонка», «мамин сынок», товарищи стреляли из револьверов, пугали пистонами, а солн- це меня любило; но иногда среди солнца березы начинали свистеть «сссшшшссс» и начиналось «это». Мне хотелось тогда с кем-нибудь заговорить, чтобы «это» не росло. И «оно» проходило.Доктора запретили, чтобы мне читали сказки, но это все было «не о том».
Милый, я нарочно пишу все это, чтобы Ты хоть сколько-нибудь понял, что со мной было теперь, а то «это» пожалуй будет лишь относительно понятно.Тогда же я глухо понимал, что меня любят и берегут «там», но что есть другое «там», и из этого другого (лабиринта) от времени до времени выползает ужас и грозит меня растерзать.
Потом настали дни, когда все это ушло. Ужас, бунтующий в ночи, ушел. Тогда появился преподаватель латинского языка Казимир Клементьевич Павликовский. Он семь лет мучил каким-то несказанным ужасом, вызывая меня на истерические припадки исступленности, которые он смирял единицей. Право, это не смешно, а ужасно, потому что я узнал мое «это», наплывавшее в шелесте берез «сссшшссс», приходившее ко мне коренастым Афросимом Родионовым (кстати: тут я узнал, что Афросим по-гречески значит: «Безумец»). «Оно» ушло изнутри, и вот появилось извне.Я поступил в университет. Усердно занялся естествознанием. Стал писать стихи и читать рефераты об «одноклеточных организмах». Изнутри все улеглось. Извне я избавился (кончил гимназию).
И вот весной возвратилось. Опять я ждал страшного незнакомца. Внутри произошло то, что описано событиями в 1-й симфонии. Тут же я узнал Владимира Сергеевича Соловьева, и потом увидел на одном из концертов среди звуков бетховенской симфонии два глаза — и больше ничего. Начались огненные откровения. На зверя, посылавшего мне из лабиринта Павликовских, Родионовых и др., опоясанных «этим», — на зверя восстала «Жена, облеченная в Солнце». Всадники зверя боролись с всадниками Жены (2-я симфония).
Я понял, что ужасы Хаоса в конце концов (Павликовский, Афросим) (в окончательности) воплотятся в Лик Безумия, в Зверя, а моя ласковая усмиренность детских дней — в Ее веяние, голубиный лет усмиренной печали, Св. Дух, сходящий на нас. После борьбы придет полнота времен и приблизится Господь. В Мережковских послышалась мне нота полноты, но еще я не мог разобраться какой — здешней, или Той, Окончательной. От них шло это веяние, или они зажгли во мне Христово, но вдруг я попал в лазурь: на горизонте было вино. Я думал, борьба кончена. Ласка и усмиренность «Отныне и до века» со мной. Я почувствовал, что я «спасенный ребенок». Я не знал, что это еще только отдых, что еще времена окончательной борьбы впереди. Я еще не понимал, что тема, звучащая в «Возврате» (3-ья часть) и в «Золоте в лазури» — «Все тот же раскинулся свод» и т. д., что эта тема — трагическая, нечто вроде «Пира во время чумы». Я думал, это — счастье. Но все это было лишь замаскированное:«Затуманены сном Наплывающей ночи
На челе снеговом Голубые безумные очи»...А моя тишина была та тишина, в которой «Офелия гибла и пела, и пела, сплетая венки ». «Солнечность» «Золота в лазури» — вот какая солнечность: «Есть в осени первоначальной» и т. д.
Опять началось. И на этот раз самый страшный бой: «зверь» набелился, нарумянился и незаметно присоединил свой голос к пиршеству лазури (цыганство, цыганский хаос) («Не тот» и т. д.). Пахнуло «жертвенным врубелизмом», а потом вдруг появились отовсюду радостные единороги, затанцевавшие вальс, они кричали: «Здравствуй» и радовались, что я проглядел их под маской безбурности. Но это был первый порыв бури; еще настоящая гроза только приближалась.
Я стоял в голубых пространствах. Вдруг туча белых миндальных и бледно-розовых яблочных лепестков закружилась вокруг меня. Мне было хорошо в этом неожиданно пришедшем круговороте, застилавшем лазурь. И я шел в круговороте. И лепестки сплетались в один шатер — белорозовый, озаренный голубым лучом месяца. И я думал, что это — храм. И в храме стоял Он с улыбкой кроткой безбурности: только не было того веяния, которое с Ним приходило. Но вдруг Он рассеялся, и посреди храма взвилась пепельная ракета. Взвилась и рассыпалась пеплом. И пепел начал кружиться вокруг. И тогда открылся лабиринт. Идя в белом и розовом водовороте миндального цвета, я незаметно спустился в лабиринт, повитый ласковым облаком; но когда я уже был внутри лабиринта, пелена развеялась — и помчался бычий лик Минотавра. Тут я понял, что роковая тема ужаса, всю жизнь змеившаяся вокруг меня, но не смевшая вступить в бой, теперь ринулась на меня. Мне предстоит или умереть, или убить Минотавра, защищая себя. Ужас еще не вселился в мир. Зверь еще не имеет определенного Лика, но уже на многие Лики падает тень. Теперь тень пала для меня на Лик Валерия Брюсова, и мне предстоит выбор: или убить его, или самому быть убиту, или принять на себя подвиг крестных мук.
Еще в прошлом году он начинал «творить марево» вокруг меня, прикидываясь обозленным вепрем. Мне удалось его разбить внутри, но он нырнул слоем глубже и явился передо мной под личиной дружбы, но когда я пошел навстречу его видимой искренности, она приняла вид какой-то исступленности, так что я недоумевал, что «это все» означает. Порой прорывались нотки стародавней ярости и он стал творить рад ужасов. Из-за его спины выступил Ужас. И вот Брюсов снял маску. Он объявил, что уже год «творит марево», и когда его просили удержаться от «марева», он прямо заявил, что «теперь это не в его власти». Гипнотизер он сильный: стал ломиться извне и изнутри. Я понял, что воздвиг его мой враг, и что «это» — посланный подвиг. Помолился: разбил его внутри при помощи «посланной свыше помощи», а он в ответ стал обливать меня потоками грязи извне, все под видом «нашей дружбы». Все это сопровождалось радом гипнотических и телепатических феноменов. Были и медиумические явления: у нас в квартире мгновенно тухла лампа, когда ее никто не тушил, полная керосину, раздавались стуки. Маме в уши что-то шептало (она не могла разобрать что) и кто-то говорил «Валерий Брюсов» (мама тогда ничего не знала о нашей борьбе). Наконец я призвал силы, опоясался «молньей» и ударил в Брюсова; это происходило «там внутри», но он ответил извне стихотворением, посвященным мне, «Бальдеру—Локки», где прямо говорит о «молнье» и много другого феноменального. Наконец приехали Флоренский и Петровский из Академии и отнесли в «Скорпион» стрелой сложенную записку Брюсову в знак объявления войны. Тут пришли «белые купола и старцы» и укрыли меня, дали отдых на два, три дня. Потом Валерий Брюсов опять начал свои странно-страшные нападения. Он стал постукивать, как Хунхуз: не будучи в состоянии напасть открыто, он стал тревожить ложными вылазками, не давая отдыху. И поскольку он «во внешнем» прямо заявлял, что во что бы то ни стало убьет меня (нравственно, духовно, и даже физически), вынуждая взяться за меч, постольку я решил «все это покончить», вызвав его на дуэль. Едва я это подумал, как мне стороной передали, что он видел сон, что я его убил на дуэли после ссоры в кабачке в Кёльне в XVI веке (он теперь пишет роман из Кёльнской жизни), причем в числе присутствующих при этой ссоре был и Бальмонт.
Это мне открыло глаза. Дело в том, что я только что перед этим решил твердо, что после лекции Бальмонта, когда мы будем проводить с ним прощальный вечер (он уезжает в Мексику) в одном из «кабачков» (в Большом Московском), я вызову Брюсова на дуэль, потому что был твердо уверен, что он подаст к тому повод: только что разбитый внутри «наголову», он должен перенести весь тон кампании «во вне», и я знал, что под маской дружбы на меня польются потоки грязи. Я решил не спустить ему ничего и дать пощечину. Все это я решил — и вот Брюсов рассказывает мне свой сон и всячески старается мне дать понять, шутя, что драться на дуэли он готов. Тут я понял, что в его «марево» входит и дуэль, и что мой вызов, «извне эффектный», изнутри — «срыв», ненужное бегство после генеральной победы над врагом. Тут я и послал телеграмму Любовь Дмитриевне, глубоко веря в силу Ее молитвы и в силу Твоей любви ко мне, и зная, что Ты помолишься за меня.
Спасибо, спасибо: все прояснилось, и я увидел, что «дуэль — марево», и что пусть лучше я буду испытывать «крестные муки», — ведь мучение, клевета, поругание суждено мне. И я пошел на страдание. И получил его. И счастлив.Спасибо, спасибо, милый, за письмо: оно пришло в день лекции Бальмонта, и утешило меня.
Строчки, написанные Любовью Дмитриевной, вызвали во мне молитвенное благоговение, и я понял: «я сильнее, чем сам предполагал». Сегодня вечером у меня будет Бальмонт, Брюсов, Соколов и прочие «упадочники». Мучение возобновится.
Пусть.
Я счастлив и радостен.
Милый, если бы Ты знал, как мне дорого получить каждое Твое письмо: напиши мне. Если я не писал, то это оттого, что совсем разучился писать письма. Нежно и глубоко любящий Тебя.0694