
1000 произведений, рекомендованных для комплектования школьной библиотеки

- 998 книг

 Ваша оценка
Ваша оценкаЖанры
 Ваша оценка
Ваша оценка
Свежак надрывается. Прет на рожон
Азовского моря корыто.
Арбуз на арбузе - и трюм нагружен,
Арбузами пристань покрыта.
Э.Багрицкий, "Арбуз", 1924
В рассказе Катаева «Встреча» описана, внезапно, первая встреча Катаева с Багрицким. Описана довольно восторженно, как нечто очень важное для Катаева, даже с некоторой, как мне показалось, заискивающей самоиронией (как в эпизоде, когда Катаев позволил себе посмеяться над вычурностью псевдонима своего нового друга).
Я люблю, когда книга дает повод перескочить к другой книге. Именно таким предложением мне и показался этот рассказ Катаева – стихи я люблю, про Багрицкого много слышал, но что я знаю о нем кроме пресловутой молодости и кронштадтского льда? Самое время, подумал я, купить что-нибудь букинистическое.
Я не пожалел, что сделал это. Чем старше становлюсь, тем больше чувствую, что в поэзии совершенно не имеет значения тема стихов, гражданственность что ли, а важен ритм, который иногда кажется чем-то волшебным. Чувствую я это с некоторым удивлением, ведь сами поэты, как и все другие люди, делятся на лагеря и ведут склоки чаще всего не из-за ритма, и содержание стихов служит водоразделом не так уже редко. Но ведь очевидно, что у какого-нибудь Тихонова очень много общего с Киплингом не только в образно-содержательном плане, а Багрицкий схож с Гумилевым не только увлечением романтической изнанкой мироздания. Думаю, что можно найти более удачные примеры, из разных времен и идеологических лагерей, но что-то желания такого у меня нет, куда приятнее вспоминать стихи, хорошие, удачные стихи из этого сборника.
Да, я получил от чтения настоящее удовольствие. В некоторых местах Багрицкий взбирался так высоко, что весь аналитический аппарат у меня отключался, оставалось лишь какое-то голое восприятие удивительного ритма. Автор искал вдохновение в войне, революции, похождениях батьки Махно, в первой пятилетке, грустил о переезде с юга под Москву, и я был бы рад цепляться за эти маркеры, соотносить его и ставить в ряд, искать в его стихах веяния времени, но зачем? Это просто хорошие стихи, написанные в СССР в 20-30-е. Они испытали влияние текущей повестки, но хорошими стихами они стали, все же, не только благодаря этому, по крайней мере трудно считать внешний мир решающим фактором.
Разрешу себе лишь заметить метаморфозу «Думы об Опанасе» - неплохая поэма о продармейцах, Когане и Махно в начале 30-х превратилась в оперу, замечательно отразившую всю мутацию, прости господи, дискурса. Старых строф почти не осталось, акценты изменились, сам Опанас, обагривший руки кровью Когана, превратился из главного действующего лица в марионетку коварных сил, выведенных в виде femme fatale, обретавшейся при Махне. Образы еще не кажутся отлитыми в бронзе, как в конце 30-х, но направление движения угадывается безошибочно.
Но долой анализ, даешь стихи.
P.S. Багрицкий так часто упоминает Уленшпигеля, что я почти уверен в направлении своего следующего книжного прыжка.

Багрицкий Э.Г. Стихотворения и поэмы. — М.: Московский рабочий, 1984. — 304 с. — Тираж 100.000 экз.
В 1970-х гг., когда я учился в советской школе, поэма Багрицкого «Смерть пионерки» входила в школьную программу по литературе. Я ещё тогда прочитал, за компанию, вторую его поэму — «Дума про Опанаса», и обе произвели на меня сильное впечатление. Я понял две вещи: 1. Багрицкий — поэт сильный; 2. Его творчество исключительно «правильное»: в том самом духе, в каком воспитывает нас, советских пионеров, вся наша советская литература. Багрицкий в моём сознании стал чем-то вроде «Гайдара от поэзии». Именно это и остановило в самой начальной фазе знакомство с его творчеством: мы, пионеры 1970-х гг., пионерской тематикой были перекормлены, от неё уже тошнило. После школы, на протяжении многих-многих лет, возвращение к Багрицкому по разным причинам откладывалось. Но всё к лучшему в этом лучшем из миров: вряд ли в молодости я увидел бы то, что вижу сейчас.
А хорошего вижу мало (см. заголовок рецензии).
Безграмотность
Эдуард Багрицкий, он же Давид Дзюбан, родился и вырос в Одессе. Там, как известно, русский язык своеобразный. Носителю этой версии перейти на литературную речь непросто. В целом Багрицкому-Дзюбану это удалось, но отдельные языковые ошибки у него проскакивают. Видно, что он попросту не знает смысла многих слов (кто не верит — подробности под спойлером).
Стихотворение «Знаки» (1920): здесь есть словосочетание «стогны баррикад». Значение церковнославянского существительного «стогна» поэту явно неизвестно. Главное — чтобы звучало красиво! )
Стихотворение «51» (1922): «Прославив молот и гремучий серп». Попробовал бы он сам, что ли, греметь серпом, прежде чем писать такое.
Стихотворение «Москва» (1922): «нога отстукивает лад» (отстукивать можно только ритм, но никак не лад). Та же ошибка в маленькой поэме «Трактир» (1919-1920; 1933): «... лад отбивать слагающейся песни».
«Ленинград» (1922, 1929): трость «реет».
... Но полыхает плащ — и трость
По спинам и по выям реет.
Глагол «реять» имеет несколько значений, но до Багрицкого никому не приходило в голову использовать его для обозначения процесса избиения людей тростью. Да и после Багрицкого тоже.
«Красная армия» (1923): «полощет флаг» (вместо должного «полощется флаг»).
С флагами вообще беда, в следующем стихотворении («Февраль», 1923) читаем: «Флаг полыхает трёхцветный». Ага, российский триколор. Полыхает! )))))
«Рыбаки» (1923): труд рыбака «заскорузлый».Опять незнание смысла употребляемого слова.
«Осень» (1923, 1928): «псиный вой» (вместо должного «пёсий вой»).
Ещё одна «Осень» (1924): «Буквами кроется бумага».
Видите, в чём кроется ошибка? В том, что бумага буквами не кроется, а покрывается (перепутаны два созвучных глагола с совершенно разным смыслом).
«Новые витязи» (1828)
Полярною чайкой тревожится лень
Студёных оскалов и пастей;
И воют в огромный сияющий день
Медведи невиданной масти.
Мало того, что медведи невиданной масти (судя по контексту, просто-напросто белые); но они ещё и воют! Хотя всякий русский человек знает, что воют волки, а медведи ревут.
Поэма «Дума про Опанаса» (1926):
... Что поедешь через Балту
Трактом малахольным.
В русском языке прилагательное «малахольный» применимо только к человеку. Впрочем, есть мнение, что поэту позволительно расшатыватья зыковую норму.
И ещё много чего Багрицкий не знает.
Стихотворение «Москва» (1922): «Стенькины ушкуйники». Ушкуйников Иван III всех повывел ещё за полтора века до рождения Стеньки.
«Театр» (1922): «... как ослеплённый Лир». У Шекспира ослепляют не Лира, а Глостера.
«Можайское шоссе» (1928): Наполеон едет завоёвывать Москву «в старом тарантасе» (!) Если бы поэт знал, что тарантас — чисто русская четырёхколёсная повозка без рессор, он не стал бы усаживать в столь экзотичное транспортное средство императора Франции.
Весьма досадная черта поэзии Багрицкого — злоупотребление инверсией ударений. В стихотворении «Охота на чаек» (1924) читаем:
«Мартыны́ летят за скумбриёй...»
(«мартын» — крупная чайка).
В другом стихотворении того же года, незатейливо названном «Скумбрия», есть рифмы «скумбрия́ — чешуя́» и «струя́ — скумбрия́»; есть и варианты: скумбри́я; творительный падеж — скумбри́ями. Наконец, в третьем стихотворении того же года, «Лето», есть рифмы: «колея́ — скумбрия́» и «скумбрия́ — бытия́». Кажется, эта «скумбрия́» была так мила поэту по той простой причине, что он легко находил к ней рифмы:)
Ещё у Багрицкого встречаются ударения: «в бурьяна́х», «юпитера́», «инстру́мент», «автобу́с». А в раннем стихотворении «Фронт» (1923) есть даже «циркуля́»:
... Циркулярами и циркуля́ми
Шта́бы переполнены в края.
Но здесь уже скорее безвкусица, чем безграмотность. Безвкусицы тоже много.
Безвкусица
«Рассыпанной цепью» (1920). Здесь аллегорически изображается победа в гражданской войне. Финал такой:
А зверь идёт... И сумрачный рабочий
Стоит в снегу и нож в руке сжимает,
И шею вытянул, и осторожно
Глядит в звериные глаза! Друзья,
Облава близится к концу! Ударит
Рука рабочья в сердце роковое,
И захрипит, и упадет тяжёлый
Свирепый мир — в промёрзшие кусты.
А мы, поэты, что во время боя
Стояли молча, мы сбежимся дружно,
И над огромным и косматым трупом
Мы славу победителю споём!
Что это, если не дурной вкус? Нет нужды комментировать, двигаемся дальше.
«Тиль Уленшпигель. Монолог» (1922)
Я слишком слаб, чтоб латы боевые
Иль медный шлем надеть...
Ну почему, почему шлем XVI века медный? Всё просто: здесь Багрицкому Пушкин припомнился. Строки из «Руслана и Людмилы»:
На брови медный шлем надвинув,
Из мощных рук узду покинув...
Пушкину, значит, можно? А почему тогда Багрицкому нельзя? ))
«Москва» (1922)
... Недаром же ключами Калиты
Ты ситцевый передник обвязала.
Что за ключи были у Калиты, и как можно обвязать ключами передник? Нет ответа.
«АМССР» (1924)
Здесь укрывалась дрофами степными
Офицерия до роковой поры.
Что за «офицерия», легко домыслить, но вот как эта самая офицерия укрывалась дрофами??
Впрочем, хвост у степной дрофы широкий, а если она ещё и крылья растопырит — пожалуй, в самом деле за эту дрофу вся офицерия спрячется:)
Дважды встречается у Багрицкого образ морской воды как«рассола». В стихотворении «Арбуз» (1924, 1928) он особого протеста у читателя не вызывает: «Пустынное солнце садится в рассол...». А вот второй пример, на мой вкус, выразительнее («Взывает в рупор режиссёр...», 1925):
Суда уходят в океан,
В простор ночей и льда.
Их будет омывать рассол,
Им будет петь вода...
Рассол будет омывать суда! Вот и славно, сгодится матросамна случай похмелья после крепкой пьянки: ведёрко закинул за борт, зачерпнул рассольчику — и похмеляйся...
Вот ещё один нетривиальный образ («Стихи о соловье и поэте», 1925):
Зелёною смушкой покрылся кустарник...
Здесь надо знать, что такое смушка, чтобы в полной мере оценить силу поэтического воображения:)
А теперь перейдём на новый уровень: от вещей и явлений – к историческим лицам, которые не давали поэту покоя (или, скорее, он им).
Стихотворение «Пушкин» (1923):
... Свершается победа трудовая...
Взгляните: от песчаных берегов
К ним тень идёт, крылаткой колыхая,
Приветствовать приход большевиков.
Она идёт с подъятой головою
Туда, где свист шрапнелей и гранат,
Одна рука на сердце, а другою
Она стихов отмеривает лад.
Поизгалявшись над беззащитной тенью Пушкина, Багрицкий не остановился на достигнутом. В следующем году он накатал весьма эффектный стишок про дуэль поэта («О Пушкине», 1924). Вот лучшее место:
Случайный ветер не разгонит скуку,
В пустынной хвое замирает край...
...Наёмника безжалостную руку
Наводит на поэта Николай!
Он здесь, жандарм! Он из-за хвои леса
Следит упорно, взведены ль курки,
Глядят на узкий пистолет Дантеса
Его тупые скользкие зрачки.
Этот обличительный стишок написан не когда-нибудь, а в эпоху расцвета научной пушкинистики: в частности, «Дуэль и смерть Пушкина» Щёголева двумя изданиями успела выйти (1916, 1917; в 1928-м переиздадут). Но Багрицкий читал явно не Щёголева, а какую-то трудно вообразимую хрень. Или вообще ничего не читал, а попросту фантазировал духе пролетарского мироощущения. Даром что сам был типичным деклассированным элементом, выходцем из мелкобуржуазной среды («сын продавца», как обращается к нему в одном из стихотворений Романтика).
Тень Пушкина, приветствующая большевиков, и наблюдающий за дуэлью поэта жандарм, подосланный царём Николаем — фантазии болезненные, но для психики поэта сравнительно безобидные. Хуже, когда декабристы начинают мерещиться, как в стихотворении «Папиросный коробок» (1927):тут за поэта прямо страшно. Багрицкий, несмотря на астму, продолжал купить; и курил, видимо, что-то забористое.
Как-то раз попался ему папиросный коробок, где на этикетке была не реклама, а портрет Рылеева. И понеслось...
... Столетняя палка застыла в углу,
Столетний цилиндр вверх дном на полу,
Вихры над веснушками взреяли, —
Из гроба, с обложки ли от папирос —
Он в кресла влетел и к пружинам прирос,
Перчатку терзая, — Рылеев...
Дальше поэта ещё сильнее глючит:
... Из пруда, прижатого к иве,
Из круглой смородины лезет в окно
Промокший Каховского кивер...
Как хотите, а здесь крайняя степень безвкусицы (да и нелепицы).
Пугающие видения прямо преследуют поэта: в стихотворении «Бессоница» (1927) его дом сдувает ветром. Выразительно описывается, как дом куда-то «пролетает тропой недоброй», но поэт всё-таки силой мысли его останавливает (после чего обнаруживается, что всё пригрезилось). Это интереснейшее стихотворение я причислил бы к числу удачных, если бы не разговор с собакой в финале.
... Прочно уставлена косая хвоя,
Врыт частокол, и собака стала.
- Милая! Где же мы?
- Дома, под Москвою;
Десять минут ходьбы от вокзала.
Мне скажут, наверно, что я передёргиваю, что «милая» — вовсе не собака, а жена поэта; но жена выше не упоминалась. А собака упоминалась:)
Стихотворение «Можайское шоссе» (1928). Две части: впервой поэт вспоминает о событиях 1812 года, о Наполеоне («По этому шоссе на восток он шёл»); во второй — поэт вполне буднично едет на автобусе в Москву (но его спутники, «люди из весёлых предместий», представляются ему покорителями столицы). Можайское шоссе вообще-то построено в 1868—1888 гг., но самое смешное не в этом, а в склонности поэта сопоставлять несопоставимое. Именно к этому стихотворению относится шпилька Мандельштама в адрес Багрицкого: «Выйдет на Можайское шоссе, так непременно увидит Наполеона». Не в бровь, а в глаз! Да и ко всей поэзии Багрицкого вполне приложимо.
Впрочем, безграмотность и безвкусица — это всё пустяки. Багрицкий ведь работал для очень невзыскательного читателя; об этом даже и стишок у него есть — «Стихи о себе. 2. Читатель в моём представлении» (1929). Финал такой:
... Сдвинет картуз
И зевнёт слегка,
Книжку мою
Возьмёт из мешка;
Прочтёт стишок,
Оторвёт листок,
Скинет пояс —
И под кусток.
Самокритично, правда? И с юморком! Кстати, больше юмора у Багрицкого нигде нет; во всех остальных случаях он дьявольски серьёзен.
Переходим к самой неприятной черте творчества Багрицкого.
Некрофилия
Сдвиг в сторону некрофилии в сознании Багрицкого произошёл не сразу. Начиналось всё у него сравнительно безобидно: пригрезились восставшие из могил строители Петербурга («Ленинград», 1922).
... Но воля в мертвецах жила,
Сухое сердце в рёбрах билось,
И кровь, что по земле текла,
В тайник подземный просочилась.
Вошла в глазницы черепов,
Их напоив живой водою,
Сухие кости позвонков
Стянула бечевой тугою,
И финская разверзлась гать,
И дрогнула земля от гула,
Когда мужичья встала рать
И прах болотный отряхнула...
Здесь поэт останавливается, ибо не знает, что ему с этой ратью мертвецов дальше делать. Пока мы имеем дело всего лишь с поэтической фантазией. В более поздних стихах будет интереснее. Как-то физиологичнее... и даже, я бы сказал, патолого-анатомичнее.
Вот «Разговор с комсомольцем Н. Дементьевым» (1927). Поэту «тридцатый год», его собеседнику неполных двадцать. Говорят они о будущей войне (гитлеровской Германии ещё нет, и воевать собираются с Польшей). Поэт объясняет комсомольцу, как хорошо умереть в бою, а потом романтично истлевать где-нибудь в чистом поле:
... Не дождались гроба мы,
Кончили поход...
На казённой обуви
Ромашка цветёт...
Пресловутый ворон
Подлетит в упор,
Каркнет «nevermore» он
По Эдгару По...
«Повернитесь, встаньте-ка,
Затрубите в рог...»
(Старая романтика,
Чёрное перо!)
<...>
Лежим, истлевающие
От глотки до ног...
Не выцвела трава ещё
В солдатское сукно;
Ещё бежит из тела
Болотная ржавь,
А сумка истлела,
Распалась, рассеклась,
И книги лежат...
<...>
А над нами ветры
Ночью говорят:
— Коля, братец, где ты?
Истлеваю, брат!
Да в дорожной яме,
В дряни, в лоскутах
Буквы муравьями
Тлеют на листах...
Спросите, к чему вся эта некрофильская романтика? К тому, что жизнь индивидуума никакой ценности не имеет. В советской стране все люди взаимозаменяемы, и на смену погибшим немедленно придут другие, точь-в-точь такие же:
Пусть покрыты плесенью
Наши костяки,
То, о чём мы думали,
Ведёт штыки...
С нашими замашками
Едут пред полком —
С новым военспецом
Новый военком...
Ну, и так далее.
А высшее развитие некрофилии всё-таки не здесь. Высшее — в знаменитой поэме «Смерть пионерки» (центральный фрагмент).
Нас водила молодость
В сабельный поход,
Нас бросала молодость
На кронштадтский лед.
Боевые лошади
Уносили нас,
На широкой площади
Убивали нас.
Но в крови горячечной
Подымались мы,
Но глаза незрячие
Открывали мы.
Возникай содружество
Ворона с бойцом —
Укрепляйся, мужество,
Сталью и свинцом.
Чтоб земля суровая
Кровью истекла,
Чтобы юность новая
Из костей взошла.
Стихи гениальные, конечно; недаром их бесконечно цитировали при советской власти. И я помню, что в детстве читалось это без внутреннего протеста (слегка коробило только «содружество ворона с бойцом»). Сейчас, перешагнув порог старости, я воспринимаю всё это принципиально иначе: некрофильский мотив слишком очевиден. Но дерзновенная поэтическая одержимость Багрицкого, достойная какого-нибудь древнего жреца оргиастического культа, делает накал некрофилии, выраженный здесь в крайней степени, вполне органичным. Какая выразительность, какая сила эмоционального воздействия! У других поэтов-лоялистов, славивших советский режим, ничего даже близко похожего нет.
Итак, мы естественным образом переходим от некрофилии к гениальности. Маленькая поэма «Смерть пионерки», на мой взгляд, гениальна от первой строки до последней; но проблески гениальности встречаются у Багрицкого и в других произведениях. Здесь прежде всего надо указать стихотворение «ТВС» (1929) и поэму «Февраль» (1933—1934).
Латинское буквосочетание «TBC» («тэ-бэ-ка») используется врачами для обозначения туберкулёза. Багрицкий был болен бронхиальной астмой, которая в конце концов и свела его в могилу, но для своего лирического героя он выбрал более романтичную болезнь. Фабула стихотворения — очередное видение. Больному поэту, теряющему мужество, является тень умершего три года назад Дзержинского, и начинает его наставлять. Вот центральный фрагмент монолога «железного Феликса»:
... А век поджидает на мостовой,
Сосредоточен, как часовой.
Иди — и не бойся с ним рядом встать.
Твое одиночество веку под стать.
Оглянешься — а вокруг враги;
Руки протянешь — и нет друзей;
Но если он скажет: "Солги", — солги.
Но если он скажет: "Убей", — убей.
Заметьте: написано это в 1929-м году (вошедшем висторию как «год великого перелома»). Свешались грандиозные перемены, ломались все традиции, любое сопротивление режиму жесточайше подавлялось; состоялся уже и первый показательный процесс («Ша́хтинское дело»). Но всё-таки это ещё не 1937-й год, не 1938-й. А поэт уже насквозь проникнут духом наступающей эпохи! Таких людей и воспитывать не надо: они сами других воспитывают. Своим творчеством. Причём именно так, как вышнее начальство считает нужным. И ведь это не подлаживание: это совершенно искренне, по зову сердца...
Как же дошёл Багрицкий до этой стадии нравственной деградации? Ключ здесь — предсмертная поэма «Февраль».
Рассказ там ведётся от первого лица, но лирический герой не тождествен автору: как говорится, все совпадения случайны. Обозначим героя как Г. Действие начинается летом 1916 года в Одессе.
Вот я снова на этой земле.
Я снова
Прохожу под платанами молодыми,
Снова дети бегают у скамеек,
Снова море лежит в пароходном дыме...
Вольноопределяющийся, в погонах,
Обтянутых разноцветным шнуром, -
Это я — вояка, герой Стохода,
Богатырь Мазурских болот, понуро
Ковыляющий в сапогах корявых,
В налезающей на затылок шапке...
Он приехал в отпуск, этот солдат-иудей, «ротный ловчило» («герой Стохода» и «богатырь Мазурских болот» — конечно, самоирония героя). На фронт он уже не вернётся. Его захватывает влечение к недоступной русской девушке-гимназистке:
... Самое главное совершится
Ровно в четыре.
Из-за киоска
Появится девушка в пелеринке, -
Раскачивая полосатый ранец,
Вся будто распахнутая дыханью
Прохладного моря, лучам и птицам,
В зелёном платье из невесомой
Шерсти, она вплывает, как в танец,
В круженье листьев и в колыханье
Цветов и бабочек над газоном.
Домой из гимназии
Вместе с нею
Откуда-то, из позабытого мира,
Кружась, летят звонки перемены,
Шёпот подруг, ангелок с тетради
И топот учителя в коридоре.
Пред ней платаны поют, а сзади
Её, хрипя, провожает море...
Я никогда не любил как надо...
Маленький иудейский мальчик,
<...>
Поведение влюблённого подробно описывается в прекрасных стихах... и почему-то дьявольски напоминает поведение сексуального маньяка, выслеживающего жертву. Но в городе — закон и порядок: при первой же попытке нашего Г. пристать к девушке на улице она попросту указывает ему на городового, который маячит на перекрёстке. И забывшийся поклонник испаряется.
Но вот приходит 1917 год, а с ним — Февральскаяреволюция. Наш Г. преображается: теперь он служит в революционной милиции. К весне он уже помощник комиссара, и чувствует себя хозяином жизни:
... Я вламывался в воровские квартиры,
Воняющие пережаренной рыбой.
Я появлялся, как ангел смерти,
С фонарём и револьвером, окружённый
Четырьмя матросами с броненосца...
(Ещё юными. Ещё розовыми от счастья.
Часок не доспавшими после ночи.
Набекрень — бескозырки.
Бушлаты — настежь.
Карабины под мышкой. И ветер — в очи.)
Моя иудейская гордость пела,
Как струна, натянутая до отказа...
Я много дал бы, чтобы мой пращур
В длиннополом халате и лисьей шапке,
Из-под которой седой спиралью
Спадают пейсы и перхоть тучей
Взлетает над бородой квадратной...
Чтоб этот пращур признал потомка
В детине, стоящем подобно башне
Над летящими фарами и штыками
Грузовика, потрясшего полночь...
Мыслящий и направляющий события персонаж — только Г.; сопровождающие его революционные матросы описываются как физически мощные, но умственно недоразвитые:
В караулке ребята с броненосца
Пили чай и резались в шашки.
Их полосатые фуфайки
Морщились на мускулатуре...
Розовые розоватостью детства,
Большерукие, с голубыми глазами,
Они передвигали пешки
Восторженно с места на место,
Моргали, шевелили губами,
Задумчиво, без малейшей усмешки
Подпевали, притопывая каблуками...
Однажды ночью, во главе всё тех же четырёх юных дебилов с броненосца, наш Г. устраивает облаву в притоне. Как водится, там есть и девочки. И в одной из них Г. узнаёт объект своего давнего вожделения...
Здесь, конечно, у Багрицкого грубый анахронизм: за несколько месяцев после февральской революции девушка из приличной семьи не могла так опуститься, чтобы пойти в проститутки. Для такого исхода нужны несколько лет гражданской войны. Но у Багрицкого – не «критический реализм», а поэма в духе революционной романтики. Да к тому же ещё и с символизмом: два главных персонажа, оставаясь вполне реалистичными, в финальной сцене вырастут до масштабных аллегорических фигур.
... Итак, «в третьей комнате» притона Г. обнаруживает бывшую гимназистку и её клиента, какого-то приблатнёного парня (при нём браунинг, но он не оказывает сопротивления, и его арестовывают).
«Уходите! - я сказал матросам.
Кончен обыск! Заберите парня!
Я останусь с девушкой!»
Громоздко
Постучав прикладами, ребята
Вытеснились в двери.
Я остался.
В душной полутьме, в горячей дрёме
С девушкой, сидящей на кровати...
«Узнаёте?» — но она молчала,
Прикрывая лёгкими руками
Бледное лицо.
«Ну что, узнали?»
Тишина.
Тогда со зла я брякнул:
«Сколько дать вам за сеанс?»
И тихо,
Не раздвинув губ, она сказала:
«Пожалей меня! Не надо денег...»
Я швырнул ей деньги.
Я ввалился,
Не стянув сапог, не сняв кобуры,
Не расстёгивая гимнастёрки,
Прямо в омут пуха, в одеяло,
Под которым бились и вздыхали
Все мои предшественники, - в тёмный,
Неразборчивый поток видений,
Выкриков, развязанных движений,
Мрака и неистового света...
Я беру тебя за то, что робок
Был мой век, за то, что я застенчив,
За позор моих бездомных предков,
За случайной птицы щебетанье!
Я беру тебя, как мщенье миру,
Из которого не мог я выйти!
Думаете, наверно, что здесь просто сексуальная фантазия закомплексованного и болезненного поэта, никогда не имевшего успеха у женщин? Нет, здесь совсем другое. Продолжение-то вполне прозрачное, даром что аллегория:
Принимай меня в пустые недра,
Где трава не может завязаться, -
Может быть, моё ночное семя
Оплодотворит твою пустыню.
На этом месте поэмы у меня был сильный всплеск эмоций, которые я словами выразить затрудняюсь.
Посмотрим, однако, на это место холодным взглядом. Удалось ли революционному еврейству оплодотворить изнасилованную Россию — вопрос спорный, и обсуждать его здесь не место. Отграничившись от болезненных исторических воспоминаний, мы увидим, что поэма гениальная: и по замыслу, и по исполнению. Багрицкий всё сказал, что хотел, и был предельно откровенен. Умри, Денис Давид,лучше не напишешь...
Под текстом стоят даты: 1933-1934. Вторая из них — год смерти поэта.

В этом сборнике поэта стихотворения, написанные в 1914- 1925 годах в Одессе, где он родился, начал свою литературную деятельность и был одной из самых заметных фигур среди молодых одесских литераторов (Юрий Олеша, Илья Ильф, Валентин Катаев, Лев Славин, Семён Кирсанов, Вера Инбер). Кроме них помещены произведения, опубликованные в трех книгах, изданных Багрицким (Юго-Запад, Победители, Последняя ночь), произведения 1925- 1934 годов, а также переводы из поэзии народов СССР и зарубежной поэзии. Читать эту книгу можно в любом порядке, это не имеет значения. Но лучше начать со вступительной, небольшой по объему, но емкой статьи Игоря Волгина о творчестве поэта.
Несмотря на его оптимизм и жизнерадостность, от его стихов могут оставаться самые разнообразные послевкусия, в них много противоречий по мере художественного роста поэта, и они до сих пор вызывают много споров. Особенно актуальна сейчас, по-моему, его поэма «Дума про Опанаса». Я к этой книге обращаюсь довольно часто и всегда нахочу, что-то интересное на этот момент.

Она останавливалась у цветочниц,
И пальцы её выбирали розу,
Плававшую в эмалированной миске,
Как маленькая махровая рыбка.
Из колониального магазина
Потягивало жжёным кофе, корицей,
И в этом запахе, с мокрой розой,
Над ворохами листвы в корзинах,
Она мне казалась чудесной птицей,
Выпорхнувшей из книги Брэма...

Видно, созвездье Стрельца застряло
Над чернотой моего жилища,
Над пресловутым еврейским чадом
Гусиного жира, над зубрёжкой
Скучных молитв, над бородачами
На фотографиях семейных...

В третьей комнате нас встретил парень
В голубых кальсонах и фуфайке.
Он стоял, расставив ноги прочно,
Медленно покачиваясь торсом
И помахивая, как перчаткой,
Браунингом... Он мигнул нам глазом:
«Ой! Здесь целый флот! Из этой пушки
Всех не перекокаешь. Я сдался...»
А за ним, откинув одеяло,
Голоногая, в ночной рубашке,
Сползшей с плеч, кусая папироску,
Полусонная, сидела молча
Та, которая меня томила
Соловьиным взглядом и полётом
Туфелек по скользкому асфальту...



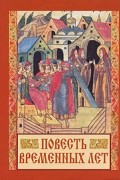








Другие издания


