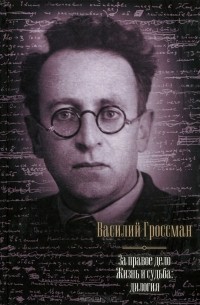
 Ваша оценка
Ваша оценкаЦитаты
 Аноним24 июля 2017 г.Читать далее
Аноним24 июля 2017 г.Читать далееДо вечера похоронные команды армии Паулюса собирали и складывали на грузовики трупы немецких солдат и офицеров, погибших при взятии вокзала.
На пустынной возвышенности, расположенной на западной окраине Сталинграда, планировщики намечали места для отрытия могил; специализированные отряды подготовляли гробы, кресты, дерн, гальку, кирпич, везли песок для посыпания дорожек на новом кладбище.
Кресты поднимались в строгом равнении, в точной дистанции — могила от могилы, ряд от ряда. А грузовики все шли и шли, пылили, везли тела убитых, гробы, кресты добротной фабричной выделки, сделанные из аккуратных, проваренных в химическом составе, предохраняющем дерево от гниения, стандартных брусьев.
На прямоугольных дощечках отряд маляров выписывал с помощью трафареток черным готическим шрифтом имена, фамилии, звания, дни, месяцы, годы рождения захороненных.
И среди сотен различных дат рождения, различных имен, фамилий молодых и старых немецких солдат, убитых при штурме вокзала, во всех надмогильных надписях была одна совпадающая дата — дата смерти.159 Аноним24 июля 2017 г.Читать далее
Аноним24 июля 2017 г.Читать далееЗемля вокруг стала слитно-черной, а все еще темное небо отделилось от нее, словно земля оттянула немного тьмы от неба, и тьма оседала бесшумными хлопьями, отслаивалась книзу. В мире уже была не одна тьма, а две: ровная спокойная тьма неба и исступленный, густой мрак земли.
А потом небо словно тронуло теплом, оно чуть-чуть посветлело, а земля все наливалась мраком. Ровная черта, отделявшая небо от земли, стала ломаться, терять прямизну, стали прочерчиваться отдельные зазубрины, неровности на земной поверхности. Но это еще не был свет на земле, это тьма делалась видимой благодаря посветлевшему небу. А вскоре стали видны облака, и одно из них, самое высокое, самое маленькое, словно вздохнуло, и легкий, едва видимый румянец живого тепла прилил к его бледному холодному личику.
Дремавшие в прибрежных зданиях бойцы 13-й дивизии услышали со стороны вокзала, где засел окруженный батальон, пулеметную очередь, взрывы ручных гранат, крики немцев, пальбу, разрывы мин, гудение танка.
— Ох, ну и народ, до чего крепок,— изумляясь, говорили красноармейцы.
Но никто не видел из прибрежных зданий, как на вокзале над темной ямой поднялся освещенный косым солнечным светом пожилой человек с запавшими щеками, поросшими черной щетиной, занес гранату, оглянулся светлым, внимательным взором.
Автоматы жадно, перебивая друг друга, застрочили по нему, а он все стоял в светло-желтом пыльном облаке, и когда не стало его видно, казалось, он не рухнул мертвым кровавым комом, а растворился в пыльной, молочно-желтой, клубящейся в лучах утреннего солнца туманности.158 Аноним24 июля 2017 г.Читать далее
Аноним24 июля 2017 г.Читать далееПока они устанавливали пулемет на новом месте, Филяшкину обожгло левое плечо, рана пустячная, не рана, а порез, он не почувствовал ее смертельной глубины.
— Перевяжи мне скоренько плечо, комиссар,— крикнул он, раскрыв воротник гимнастерки,— и тут же отмахнулся от бинта: — Потом, потом, полезли…— И он стал наводить пулемет.— Начал срочную пулеметчиком и сегодня пулеметчиком,— бормотал он.— Ленту, ленту давай,— закричал он подручному.
Он подавал себе команду и сам исполнял ее,— он был командир подразделения, и наблюдатель, и пулеметчик.
— Противник прямо и слева триста метров! — закричал он за наблюдателя.
— Пулемет к бою… по атакующей пехоте, непрерывным, пол-ленты, огонь! — закричал он за командира и, ухватившись за ручки затыльника, медленно повел пулемет слева направо.
Серо-зеленые немцы, внезапно выскочившие из-за насыпи, вызывали у него удушливое бешенство; у него не было чувства, что он обороняется и что бегущие в его сторону увертливые, хитрые немецкие солдаты нападают,— ему казалось, он нападает, а не отбивается.
В нем все время, как эхо скрежещущего непрерывного пулеметного огня, жила одна заполнявшая его мысль. В этой мысли находил он объяснение всему, что было в жизни: досаде, удачам, снисхождению к тем из сверстников, кто отстал в лейтенантах, и зависти к тем, кто, обогнав его, ушел в подполковники и майоры. «Начал срочную пулеметчиком и кончаю пулеметчиком». Простая, ясная мысль отвечала на все, тревожившее его в последние часы. Эта мысль слилась с чувством и говорила ему о том, что все плохое и тяжелое, случившееся в жизни, перестало значить для него, пулеметчика Филяшкина.
Шведков так и не перевязал его: Филяшкин вдруг, теряя сознание, с размаху ударился подбородком о затылок пулемета и мертвый повалился на землю.
Немец, артиллерист-наблюдатель, давно уже заметил пулемет Филяшкина, и, когда тот вдруг притих, немец заподозрил хитрость.
Шведков не успел поцеловать комбата в мертвые губы, не успел оплакать его, не ощутил тяжкого бремени командования, легшего на него со смертью Филяшкина,— и он был убит снарядом, всаженным немецким наводчиком в самую амбразуру его укрытия.168 Аноним24 июля 2017 г.Читать далее
Аноним24 июля 2017 г.Читать далееОна вдруг прижалась к нему, положила голову ему на плечо.
— Мишенька, ведь нам, может, час жизни остался,— быстро заговорила она,— ведь все это глупость была, неужели ты не чувствуешь? Сегодня несут, несут раненых, а я только смотрю: нет ли тебя? Да ты пойми, мало ли что находит на человека, и на меня нашло, ты кого хочешь спроси, девчат из санчасти полка спроси, они все знают, как я к тебе отношусь. Вот и на КП была, я даже смотреть на него не хотела. Я тебя одно прошу: поверь мне только, слышишь, поверь! Вот ты всегда такой! Почему ты понять не хочешь?
— Пускай, товарищ Гнатюк, я ничего понять не умею, зато вы слишком много понимаете. Я к девушкам подхожу без замыслов. Вы и понимайте, а я не обязан людей обманывать, как некоторые.
И как бы ища поддержки в своем трудном решении, он прижал к себе полевую сумку, погладил ее ладонью.
Несколько мгновений они молчали, и он вдруг сказал громким голосом:
— Можете идти, товарищ старший сержант.
Именно эти слова пришли ему в голову, чтобы окончательно и бесповоротно закончить разговор с девушкой, и он ощутил всем телом, спиной, затылком, как нехорошо прозвучали эти деревянные слова.1576 Аноним24 июля 2017 г.
Аноним24 июля 2017 г.Все переменилось за эти часы: деликатные стали грубыми, а грубые помягчели, бездумные задумались, а погруженные в заботы с веселым отчаянием сплевывали, говорили громко, смело, как пьяные.
161 Аноним24 июля 2017 г.Читать далее
Аноним24 июля 2017 г.Читать далееИ вдруг треснул винтовочный выстрел, громоподобно ударило противотанковое ружье, за ним второе, и затрещали сотни винтовочных выстрелов, пулеметные очереди, ударили взрывы гранат. Живые были живы.
Немцы хотели разрезать оборону окруженного батальона. Они знали — разрезанная оборона теряет свою силу, как теряет жизнь разрезанное живое тело. Уверенные, что после жестокого огня упругость обороны нарушена, ткань ее омертвела, стала вялой и податливой, немцы направили удары в те стороны, где, мнилось им, легче легкого достичь быстрого успеха. Но танковое острие не вошло в живое тело батальона, а зазвенело бесцельно, отвалилось, затупленное и зазубренное.
Вавилову казалось, что он первым выстрелил по атакующим немцам. Но каждому из многих десятков людей казалось, что именно он, а не кто другой, первым нарушил тишину, сковавшую батальон.
Вавилову казалось, что не винтовочный выстрел раздался, а сам Вавилов отчаянно крикнул, и тотчас его голос подхватили сотни других голосов — и все вокруг загремело, запестрело вспышками огня. Он видел заметавшихся немцев, и, хотя он редко ругался, залегшие рядом с ним люди слышали, как он длинно выматерился.
Его поразило, что маленькие жужжащие козявки, бегущие следом за танками, и были причиной тех страшных горестей, разорения и мучений, которые он видел и о которых слышал.
Тревожное, дикое несоответствие между огромностью беды и маленькими суетливыми существами, принесшими эту беду.166 Аноним24 июля 2017 г.Читать далее
Аноним24 июля 2017 г.Читать далееОгонь внезапно оборвался, когда, по расчету сил человеческой натуры и по закону сопротивления духовных материалов, напряжение и страстное ожидание должно было смениться подавленностью и покорным безразличием.
О, какой недоброй, какой жестокой была эта тишина! Она позволяла собрать воедино все прошедшее, она позволяла робко порадоваться сохраненной жизни, она будила надежду, но и страшила безнадежностью, она подсказывала: пришел миг покоя перед будущим, более безжалостным, чем только что прошедшее,— отползи, спрячься, через минуту будет поздно. «Да, завели нас, все пел политрук, все пел, а теперь вот и пропадешь, как последний».
Для таких мыслей нужно лишь краткое мгновение, и столь же краткой была отпущенная опытным противником тишина. В такой тишине и рождается решение. Послышался негромкий, угрюмый, хриплый и лязгающий звук металла, скрежещущего по камню, выхлопы газа, нарастающее подвывание моторов, дающих большие обороты,— шли немецкие танки. И тотчас откуда-то издали донеслись уверенные разбойничьи голоса.
А батальон молчал, молчал, и казалось, опытный и сильный противник достиг своей главной цели, подавил, ошеломил, прижал, распластал волю, душевную силу красноармейцев.167 Аноним24 июля 2017 г.Читать далее
Аноним24 июля 2017 г.Читать далееШла подготовка немцев к танковой атаке, и главное острие этой подготовки было нацелено совсем не на то, чтобы перебить всех людей в батальоне,— военный опыт показал, что и самым плотным огнем не удается истребить сотни людей, зарывшихся в землю, схоронившихся в каменные норы, залезших в глубокие щели; законы вероятности опровергали возможность такого полного истребления.
Главная мощь огня была направлена против солдатской души, против солдатской воли. Сила огня врывалась в душу каждого человека, проникала в нее, как бы удачно, как бы глубоко ни зарылся человек в землю, она просверливала те нервные узлы, до которых не добраться ножу самого хитрого хирурга, она врывалась в человека через ушной лабиринт, через полузакрытые веки, через ноздри, она потрясала его череп и мозг.
Сотни людей лежали в дыму и тумане, каждый сам по себе, каждый, как никогда в жизни, чувствуя свое тело как нечто бесконечно хрупкое, могущее в любой миг безвозвратно, навечно исчезнуть. Сила огня и была направлена на то, чтобы человек сосредоточился в своем одиночестве, оторвался от других людей, уже не слышал в грохоте слов комиссара, не видел в дыму командира, не ощущал связи с товарищами и в страшном своем одиночестве познал свою слабость. Не секунды, не минуты, а два часа длился огонь, отшибавший память, путавший мысли.
Люди, на миг приподнимая головы, озирались, видели неподвижные тела товарищей: жив ли, мертв? А затем вновь лежали с одной мыслью: я-то пока жив, вот свищет, скрипит, моя ли смерть?
В этом воздействии на оставшихся в живых и был главный смысл огня, накрывшего и прижавшего к земле батальон.1199 Аноним23 июля 2017 г.Читать далее
Аноним23 июля 2017 г.Читать далееКаждый по-своему думали триста человек о будущем, о счастливом для каждого конце войны, о работе и о жизни, которая будет, конечно, лучше после войны, чем была до войны. Одни думали о переезде в районный центр, другие о переезде в деревню, думали о женах — надо помягче с ней быть, когда вернусь, а сейчас пусть продаст мой пиджак, вернусь — на новый заработаю; думали о детях — посмотреть бы, учить буду Машу на докторшу!
Филяшкин первым понял, как рухнули в полчаса все его мечтания пожить на свете. Немцы наносили основной удар прямо по Филяшкину, и сразу все стало ясным. Связь с полком нарушилась, немецкие танки, а потом и пехота прорвались в тыл батальону. Разрывы мин и снарядов ложились необычайно кучно — и не то что перебежки делать и ползти, но выглянуть из укрытия нельзя было. Он вынул пистолет и ввел патрон в ствол, отжал предохранитель. После этого ему стало беспечней на душе.
— Связи нет,— крикнул Игумнов,— отрезали с востока.
— Все! Сами хозяева,— ответил он и вместо обычной напряженности и озабоченности увидел на лице Игумнова улыбку. Кровь отлила с побледневшего морщинистого лица начальника штаба, и оно, словно омытое, стало белее и моложе.
Филяшкин увидел, что Игумнов вытащил из кармана гимнастерки несколько писем, стал рвать их на мелкие клочки, разбрасывать по полу. Он даже не задумался над тем, что делает Игумнов, понял сразу — начальник штаба не хочет, чтобы немцы, обшарив его мертвым, стали бы лапать письма от жены и детей.
Игумнов вынул расческу и провел ею по седому ежику.
— Да мать ее… жизнь! — крикнул, внезапно рассердившись, Филяшкин.— Командовать надо....
....Он приказывал, объяснял, облизывая сухие губы и похлопывая себя по лбу и по затылку,— оглушило немного, и все, что он говорил, основывалось на одном, необычайно простом и ясном чувстве: его батальон во время немецкой атаки не сдвинется с места, не будет отступать, не попытается прорваться к Волге на соединение с полком, а будет драться до конца: вздумаешь, Филяшкин, отходить — весь полк немцы утопят в Волге.
И люди, переправившиеся с ним несколько дней назад через Волгу, хотя многие из них впервые попали в бой, а остальные давно уже не были в бою,— казалось ему, испытывали такое же чувство решимости. Все сомнения, вместо того чтобы усилиться, исчезли, перестали его тревожить: отступать некуда, отступать невозможно, под обрывом вода, и все они дружно вцепились в этот край земли и уж, черта, не слезут с него, не дадут себя утопить в реке.162 Аноним23 июля 2017 г.Читать далее
Аноним23 июля 2017 г.Читать далееШмидт отбросил ногой кусок кирпича и зашагал вдоль стены. Дойдя до угла дома, он постоял, посмотрел на пустынную улицу, на мертвые, выгоревшие глазницы окон, и чувство жестокой тоски, холода, одиночества сжало его сердце. Он хорошо знал это ужасное чувство, когда казалось, что глубина неба, и сияние звезд, и солнечный свет, и воздух полей давят, мучат. Оно с особой силой приходило к нему весной — почему-то весной, когда молодая зелень, шум ручьев, мягкий, ласковый ветер, звезды в небе — все говорило о свободе.
Когда-то сын читал ему из учебника ботаники, что есть такие бактерии — анаэробы, не нуждающиеся в кислороде, они дышат азотом, отлично, весело и сытно живут на корнях бобовых растений. Видимо, есть и такие люди — анаэробы, дышат гитлеровским азотом! А вот он задыхается, не привык, ему нужна свобода, кислород!
Над хаосом бесчестия и невинной крови, над победной, сверкающей медью оркестров, над лающим криком команды, над пьяным хохотом, над воплями гибнущих старух и детей как странное видение вставало перед Шмидтом бледное лицо, высокий скошенный лоб человека, объявившего, что он и есть Германия, что Германия — это он.
Как же это случилось, что он, солдат Карл Шмидт, немец, сын немца и внук немца, любивший свою родину, не радовался победам Германии, а ужасался им?
Почему же такую тоску испытывал он сегодня ночью, когда стоял на часах в разрушенном городе, на берегу Волги и смотрел, как светлые тени огня шевелятся на стенах домов с выжженными, мертвыми глазницами окон?
Как ужасно одиночество!
Иногда ему начинает казаться, что он разучился думать, что мозг его окаменел, перестал быть человеческим мозгом. А иногда он пугается своих мыслей, ему кажется, что Ледеке, Штумпфе, эсэсовец Ленард могут, взглянув ему в глаза, вдруг понять, прочесть все, что происходит в его мозгу, в его душе. Иногда его охватывает ужас, что ночью в казарме он может проговориться, начнет бормотать во сне и сосед подслушает его, начнет будить товарищей, скажет: «Послушайте, послушайте, что говорит о [нашем вожде] {311} этот красный Шмидт».1132