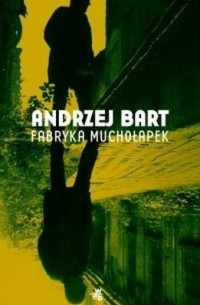"... вот-вот замечено сами-знаете-где"

- 39 918 книг
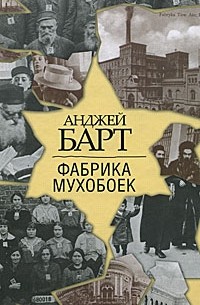
 Ваша оценка
Ваша оценкаЖанры
 Ваша оценка
Ваша оценка
Тот случай, когда рандомный (даже дважды рандомный) выбор книги для чтения, от которой ничего хорошего не ожидал, принёс с собой открытие — сродни обнаружению потайного помещения в «Белом лебеде», вроде и огромного, на деле же шириною всего в шестьдесят сантиметров, застенок в буквальном смысле этого слова. Неужели можно в таком существовать? Не повернуться же. А как же клаустрофобия?
А как люди существовали в гетто, в таком же сжатом пространстве, где, кажется, и не вдохнёшь глубоко, не столкнувшись с товарищами по несчастью? И это — годами…
Предопасение того, что читать придётся пафосно-надрывный, плакатный текст, развеялось с первых же страниц — там разворачивалась и в самом деле фантасмагория в булгаковском духе, да и Кафке прямая родня, чего автор и не скрывает. Ассоциации с «Процессом» и «Замком» возникнут даже у тех, кто знаком с этими произведениями лишь понаслышке; сам Франц неоднократно упоминается в повести Барта — справедливости ради отмечу, что наряду с другими писателями: в «Фабрике…» так или иначе фигурируют Винфрид Зебальд, Януш Корчак, Владислав Реймонт, Ханна Арендт, Бруно Шульц, Роберт Музиль (заметьте, как минимум три имени с ДП связаны, ох, неспроста это…). И язык Барта великолепен, просто литературное наслаждение.
Действие развивается сразу по нескольким не столько сюжетным линиям, сколько точкам зрения рассказчиков либо главных героев. Их трое.
Регина Вайнбергер (не знаю, существовала ли она в реальности), жена Хаима Румковского (а вот он точно существовал, был «господином председателем» юденрата Лодзинского гетто — за что, собственно, его и судят практически всю книгу) вынуждена присутствовать на процессе над своим убелённым сединами мужем. Она яркая, нервная, мятущаяся, но совершенно амбивалентная — то есть непонятно, как она всё происходящее оценивает и что выкинет в следующий момент.
Марек, приёмный сын Регины и Хаима, мальчишка, только начинающий становиться подростком. Ребёнок того времени, он чётко знает своё место и основную детскую обязанность — помалкивать, но это же пацан с шилом известно где, поэтому он не может устоять перед соблазном обследовать странное место, где все участники процесса оказались волею то ли судеб, то ли непонятного выверта пространства-времени, то ли сна третьего и главного главного героя.
Это безымянный рассказчик от первого лица (не факт, что автор, ой не факт), наш современник, то ли историк, то ли исследователь творчества Кафки. Он знает о своей болезни и даже не спрашивает, ломая руки в тоске: кукушка, кукушка, сколько мне жить осталось? — нет, он прекраснейшим образом осведомлён, что кукушечка его уже поехала бесповоротно. Он даже понимает, что всё происходящее — это его полусон-полубред:
Вот это его неординарное состояние — осознание собственного сдвига по фазе — пристальное моё внимание привлекло. Я-то, честно говоря, больше других напастей опасаюсь как раз умом тронуться: ведь об этом и не узнаешь даже, оно только окружающим будет заметно и очевидно :(( божечки, только не это, а ведь есть предрасположенность, увы, но мы сейчас не об этом, давайте вернёмся к нашим мухобойкам (или мухоловкам? у переводчика не сложилось однозначного мнения на этот счёт; собственно, диковатое название книги — моя единственная к ней претензия).
Поначалу линии (1) Регины, Хаима и Марека и (2) «я» и Доры, о которой речь ещё впереди — развиваются параллельно, кажется даже, что всё-таки в разных временах, а вот уже Регина вдруг оказывается тётей Павла, друга рассказчика, но это семечки по сравнению с тем, что (чуть не написала «чту»,почему-то в доставшейся мне электронке эта опечатка раз двадцать встретилась, что/чту такое) рассказчик видит Марека, который смотрит на него из окна третьего этажа замкнутого, как бутылка Клейна, здания суда. У меня, честно говоря, в этом месте возник вопрос: а кого оттуда видит Марек? Как выясняется, «одного из циркачей» (это рассказчик и его друг Юрек; почему циркачи? — видимо, потому, что они в современной одежде, которая Мареку представляется нелепой).
Процесс над Румковским тем временем идёт своим чередом. Один за другим вызываются из небытия давно мёртвые свидетели — положительные и отрицательные, вымышленные и реально существовавшие. Сгибается под грузом обвинений красивый и гордый прежде седой человек на скамье подсудимых. Он хотел как лучше.
Удивительная особенность текста — он действительно по-цирковому как-то, с изяществом канатоходца даже скорее, движется точно по грани между сжимающей горло трагедией и абсурдистским фарсом. Странным образом подсветил мне читаемое баш:
Вот что-то эдакое, как в воду глядели.
Хотя за Хаима по-настоящему больно и страшно, но и он страшен в своей убеждённости, что творил добро — то ли какое мог в навязанных обстоятельствах, то ли как он его понимал. Хаим одновременно и символ, и жертва — как и любой из присутствующих на странном (Страшном?) суде. «Ради участия в таком процессе стоило расстаться с жизнью», — перегибает палку защитник Румковского Борнштайн.
При этом попавшие в… замок? ну, пусть здание суда — заметно менее свободны в своих перемещениях, чем рассказчик и почему-то его Дора. Им двоим даже удаётся попутешествовать по Лодзи. Я, замороченная фантазией автора, до самого конца не могла определиться: Дора — наша (и рассказчика) современница или всё же пленница Лодзинского гетто и прошлого?
Финал повести по-настоящему, ошеломляюще страшен. Последующая цитата относится не только к подсудимому, но и к зрителям суда / читателям книги:

К сожалению, в журнале напечатаны только фрагменты романа, а полностью он должен быть опубликован в издательстве «Мосты культуры/Гешарим».
В романе описывается судебный процесс над председателем лодзинского гетто Хаимом Румковским, при этом ни председателя, ни свидетелей, ни просто присутствующих в зале давно нет в живых (все они погибли в газовых камерах или от голода). Они временно вернулись и собрались именно ради этого процесса, чтобы все-таки определить, что сделал этот человек: хотел ли он своими действиями сохранить жизнь евреев или все-таки предал их и довел до смерти.

Скрытный поляк, который, судя по польской википедии, пишет сценарии для фильмов и как Пелевин и Пинчон не светится на публике, взял на себя конъюнктурную (для Польши и Европы, и Америки, и Израиля, и евреев всего мира) тему лагеря смерти и устроил над ней модернистский эксперимент. Сделав себя главным героем этого текста он окружил себя жертвами Лодзинского гетто и "свидетелями", которые взяли на себя роль оценки юденратов (автономного управления еврейского гетто, через которое им управляли немцы), как факта. Начитанный мастер явно глубоко покопался в архивах, чтобы, несмотря на сюрреализм и прыгучесть происходящего, создать эффект присутствия.
Те, кто ищет в этой книге громкого "кафкианства" может закрыть книжку на середине, будучи недостаточно напуганным. Учился он у другого еврея, или у множества других, пораженных вирусом любви к письму и отражению реальности. Довольно типичная и присущая нам сентиментальность - это то, что отличает еврейскую художественную прозу. Сентиментальность здесь дымит даже там, где хочется плакать.
Множество линий сюжета и времени, которые пересекаются здесь так, что для новичка в этой теме все может либо запутаться в край, либо дать довольно полную картину о трагедии в Польше.
В качестве свидетелей на суде выступают исследователь Холокоста Ханна Арендт, его жертва Януш Корчак, выжившая в гетто писательница и даже повешенный немецкий начальник гетто Ганс Бибов.
Но процесс и его результат мало интересуют Анджея Барта. Его теплая грусть направлена к дочери одной из не основных свидетельниц - Доре. С ней он гуляет по современной Лодзи, которую она сводит со своими воспоминаниями. Они даже находят книжку Рембо, которую подарил ей отец. В остальном он ходит вокруг суда как халтурный работник, который, скучая, ведет хронику. Другое дело - приемный сын подсудимого Марек, и вещи, которые он не успел сделать. В том, он резво перемещается по зданию суда и его окрестностям. Если вы мальчик, то вам даже не надо быть евреем, чтобы его понять. Шалопай, который выживи бы, годился мне в дедушки, успевает в этом фантомном миру пройти небольшое взросление и формирования большой мечты. С другой стороны событий молодая жена подсудимого Регина, "женщина, которая и на эшафоте не потеряла бы головы", которая заняла свое место во спасения, поставленная перед новым выбором.
Книга тяжела своей реалистичностью, несмотря на все отступления в фантазм, он лишь постороннее здесь. Или даже просторная подушка безопасности, всё-таки тема такова, что при не автоматизме чувств в ней ты можешь только тонуть. Огромная, похожая на "Приглашение на казнь", заключительная сцена в театре такая яркая краска, что ее стоило бы поставить в воскрешенном театре Михоэлса.
И да, как вы видите в моем заглавии, книга все таки про мухоловки, а не мухобойки. Люди влипли в гетто, раздавлены они были в лагерях смерти.

Начавшее пригревать солнце спряталось за тучи, но было тепло. Я обнял Дору за плечи, и мы пошли на север. Как образцовый псих, я быстро подсчитал, что, двигаясь со скоростью пять километров в час, через шестьдесят часов покажу ей море.

Путь был недолгим. В стене, из-за которой выглядывали пышные кроны деревьев, была гостеприимно открыта калитка — бережливые голландцы приняли бы её за вход в парламент. Сад за калиткой прилегал к внутреннему двору дворца, демонстрирующему огромное разнообразие стилей — не было, кажется, ни одной эпохи, из которой проектант не почерпнул бы чего-нибудь с отвагой человека, получающего солидное вознаграждение.

…он действительно пришёл пунктуально, минута в минуту. Маленький, хилый, похожий на моего знакомого лебедя из излучины Одры, с которым я ежедневно переглядываюсь. Козлиная бородка, загибающаяся книзу, а уж рукопожатие — будто твои пальцы обхватили бисквитный рулет. И, словно этого мало, тёмно-лиловый костюм из прикидывающейся шерстью синтетики и жёлтый галстук с немыслимыми геометрическими узорами.








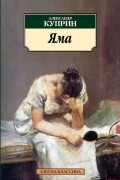
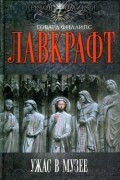


Другие издания