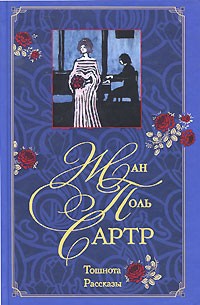
 Ваша оценка
Ваша оценкаЦитаты
 Аноним13 февраля 2011 г.
Аноним13 февраля 2011 г.По-моему, мир только потому не меняется до неузнаваемости за одну ночь, что ему лень.
11413,1K Аноним17 марта 2013 г.
Аноним17 марта 2013 г.Я чувствовал такое отчаянное одиночество, что хотел было покончить с собой. Удержала меня мысль, что моя смерть не опечалит никого, никого на свете и в смерти я окажусь еще более одиноким, чем в жизни.
10612,9K Аноним13 февраля 2011 г.
Аноним13 февраля 2011 г.Если б только я мог перестать думать, мне стало бы легче. Мысли- вот от чего особенно муторно... Они ещё хуже, чем плоть. Тянутся, тянутся без конца, оставляя какой-то странный привкус.
8512,4K Аноним26 мая 2012 г.
Аноним26 мая 2012 г.Когда живешь один, вообще забываешь, что значит рассказывать: правдоподобные истории исчезают вместе с друзьями.
8212,3K Аноним22 августа 2009 г.
Аноним22 августа 2009 г.Вот этого как раз и надо остерегаться - изображать странным то, в чем ни малейшей странности нет.
7812K Аноним26 июля 2016 г.Читать далее
Аноним26 июля 2016 г.Читать далееВот этого как раз и надо остерегаться — изображать странным то, в чем ни малейшей странности нет.
Чего бояться в мире, где всё идёт заведенным порядком?
Когда живёшь один, вообще забываешь, что значит рассказывать: правдоподобные истории исчезают вместе с друзьями. События тоже текут мимо: откуда ни возьмись появляются люди, что-то говорят, потом уходят, и ты барахтаешься в историях без начала и конца — свидетель из тебя был бы никудышный. Зато все неправдоподобное, все то, во что не поверят ни в одном кафе, — этого хоть пруд пруди.
Одинокого человека редко тянет засмеяться.
Наверно, с одиночеством нельзя играть «по маленькой».
Просто диву даёшься, как можно лгать, прикрываясь здравым смыслом.
Я не девица и не священник, чтобы забавляться игрой в душевные переживания.
Предметы не должны нас БЕСПОКОИТЬ: ведь они не живые существа. Ими пользуются, их кладут на место, среди них живут, они полезны — вот и всё. А меня они беспокоят, и это невыносимо. Я боюсь вступать с ними в контакт, как если бы они были живыми существами!
Она расходует свое горе, как скупец. Должно быть, она так же скупа и в радостях. Интересно, не хочется ли ей порой избавиться от этой однообразной муки, от этого брюзжанья, которое возобновляется, едва она перестает напевать, не хочется ли ей однажды испытать страдание полной мерой, с головой уйти в отчаяние. Впрочем, для нее это невозможно — она зажата.
Доказать вообще никогда ничего нельзя.
Три часа. Три часа — это всегда слишком поздно или слишком рано для всего, что ты собираешься делать. Странное время дня.
Я знаю заранее — сегодняшний день потерян. Ничего путного мне не сделать, разве когда стемнеет. И всё из-за солнца: оно подёрнуло позолотой грязную белую мглу, висящую над стройкой, оно струится в мою комнату, желтоватое, бледное, ложась на мой стол четырьмя тусклыми, обманчивыми бликами.
Лица других людей наделены смыслом. Моё — нет. Я даже не знаю, красивое оно или уродливое. Думаю, что уродливое — поскольку мне это говорили. Но меня это не волнует. По сути, меня возмущает, что лицу вообще можно приписывать такого рода свойства — это всё равно что назвать красавцем или уродом горсть земли или кусок скалы.
То, что я вижу в зеркале, куда ниже обезьяны, это нечто на грани растительного мира, на уровне полипов. Я не отрицаю, это нечто живое, но не об этой жизни говорила Анни; я вижу какие-то легкие подёргивания, вижу, как трепещет обильная, блеклая плоть. С такого близкого расстояния в особенности отвратительны глаза. Нечто стеклянистое, податливое, слепое, обведенное красным — ну в точности рыбья чешуя.
Неужели другие тоже так мучаются, изучая свое лицо?
Люди, общающиеся с другими людьми, привыкают видеть себя в зеркале глазами своих друзей. У меня нет друзей — может быть, поэтому моя плоть так оголена? Ни дать ни взять — ну да, ни дать ни взять, природа без человека.
Время слишком ёмкое, его не заполнишь. Что в него ни опустишь, всё размягчается и растягивается.
Камни — штука твёрдая, они неподвижны.
Вот оно время в его наготе, оно осуществляется медленно, его приходится ждать, а когда оно наступает, становится тошно, потому что замечаешь, что оно давно уже здесь.
Мои воспоминания — словно золотые в кошельке, подаренном дьяволом: откроешь его, а там сухие листья.
Тщетно я пытаюсь угнаться за своим прошлым, мне не вырваться из самого себя.
Понятие «приключение» можно определить так: событие, которое выходит за рамки привычного, хотя не обязательно должно быть необычным.
Приключения бывают в книгах. Правда, все, о чем говорится в книгах, может случиться и в жизни, но совсем не так.
Что-то начинается, чтобы прийти к концу: приключение не терпит длительности; его смысл — в его гибели.
Для того, чтобы самое банальное происшествие превратилось в приключение, достаточно его РАССКАЗАТЬ. Это-то и морочит людей; каждый человек — всегда рассказчик историй, он живёт в окружении историй, своих и чужих, и все, что с ним происходит, видит сквозь их призму. Вот он и старается подогнать свою жизнь под рассказ о ней.
Пока живёшь, никаких приключений не бывает. Меняются декорации, люди приходят и уходят — вот и всё. Никогда никакого начала. Дни прибавляются друг к другу без всякого смысла, бесконечно и однообразно.
Женщину, друга или город не бросают одним махом.
Мне очень нравилась эта лавчонка, вид у неё был циничный и упрямый, в двух шагах от самой дорогостоящей французской церкви она нахально напоминала о правах паразитов и грязи.
Настоящие дамы не знают что почём, они любят красивые безрассудства, глаза их — прекрасные и простодушные цветы, расцветшие в теплицах.
Эти люди не были ни веселы, ни грустны — они отдыхали.
Когда мне было двадцать лет, я напивался и потом уверял, что я из породы Декартов. Я отлично понимал, что пыжусь, но продолжал свое, мне это нравилось. А на другой день мне было так мерзко, точно я проснулся на кровати среди блевотины. Когда я пьян, меня не рвет, но лучше бы уж рвало. Вчера я даже не мог бы оправдаться, что пьян.
Ты видишь, например, женщину, понимаешь, что она постареет, однако ты не ВИДИШЬ, как она стареет. Но иногда тебе кажется, что ты ВИДИШЬ, как она становится старой, и чувствуешь, как сам стареешь с ней вместе, — это и есть чувство приключения.
Возможно ли вообще думать о ком-нибудь в прошедшем времени?
Всё, что я знаю о своей жизни, мне кажется, я вычитал из книг.
Прошлое — это роскошь собственника.
Прошлое в карман не положишь, надо иметь дом, где его разместить.
Врачи, священники, судьи и офицеры знают человека наизусть, словно сами его сотворили.
Ничто не ново под луною.
Когда ты хочешь что-то понять, ты оказываешься с этим «что-то» лицом к лицу, совсем один, без всякой помощи, и всё прошлое мира ничем тебе помочь не может. А потом это «что-то» исчезает, и то, что ты понял, исчезает вместе с ним.
Среда
НЕ НАДО ПОДДАВАТЬСЯ СТРАХУ.Случиться может всё что угодно, всё что угодно может произойти.
Мир только потому не меняется до неузнаваемости за одну ночь, что ему лень.
Этот человек жил только для себя. Его постигла суровая и заслуженная кара — никто не пришел закрыть ему глаза на его смертном одре.
Если вглядеться в лицо, которое пылает сознанием права, через некоторое время пламя выгорает и остается пепел.
Теперь меня уже не удивляло, почему он так неукротимо задирал нос, — судьба людей такого роста всегда решается в нескольких сантиметрах над их головой.
Выхожу на улицу. Зачем? Да затем, что так же бессмысленно оставаться дома. Даже если я останусь, даже если в молчании забьюсь в угол, я всё равно никуда от себя не денусь. Я буду существовать в этом углу, буду давить своей тяжестью на пол. Я есмь.
Господи, как навязчиво существуют сегодня вещи!
Вторник. Ничего нового. Существовал.
У меня самого никаких неприятностей — я богат как рантье, начальства у меня нет, жены и детей тоже; я существо — вот моя единственная неприятность. Но это неприятность столь расплывчатая, столь метафизически отвлеченная, что я её стыжусь.
Да, они счастливы. Ну, а что дальше?
Красота — всего лишь вопрос вкуса. Разве каждая эпоха не устанавливала для неё свои каноны?
Они будут спать вместе. Они это знают. Каждый из них знает, что другой это знает. Но поскольку они молоды, целомудренны и благопристойны, поскольку каждый из них хочет сохранить самоуважение и уважение партнера, поскольку любовь — это нечто великое и поэтическое и её нельзя спугнуть, они несколько раз в неделю ходят на танцы и в рестораны выделывать на глазах у публики свои маленькие ритуальные, механические па… К тому же надо как-то убивать время. Они молоды, хорошо сложены, им еще лет на тридцать этого хватит. Вот они и не торопят события, они оттягивают их, и они правы. После того как они переспят друг с другом, им придется найти что-нибудь другое, чтобы замаскировать чудовищную бессмыслицу своего существования. И однако… так ли уж необходимо себя морочить?
Все мы, какие мы ни на есть, едим и пьем, чтобы сохранить свое драгоценное существование, а между тем в существовании нет никакого, ну ни малейшего смысла.
Жизнь приобретает смысл, если мы сами придаем его ей. Сначала надо начать действовать, за что-нибудь взяться. А когда потом станешь размышлять, отступать поздно — ты уже занят делом.
Как можно осудить того, кто говорит вам: я распорядился своей жизнью так-то и так-то и теперь совершенно счастлив?
Моя смерть не опечалит никого, никого на свете и в смерти я окажусь ещё более одиноким, чем в жизни.
Гуманизм подхватывает и переплавляет в единый сплав все возможные точки зрения.
Людей так же невозможно ненавидеть, как невозможно их любить.
Люди. Людей надо любить. Люди достойны восхищения. Сейчас меня вывернет наизнанку.
Вкус крови во рту вместо вкуса сыра — разницы никакой.
В дни объявления войны незнакомые люди обнимаются друг с другом, с наступлением очередной весны они расточают друг другу улыбки.
Поэты! А попробуй взять одного из них за отвороты пальто и сказать ему: «Помоги мне!» — он подумает: «Это что еще за краб?» и удерёт, оставив свое пальто в моих руках.
НА САМОМ ДЕЛЕ море — холодное, черное, оно кишит животными; оно извивается под тоненькой зеленой пленкой, созданной, чтобы обманывать людей.
Я опираюсь рукой на сиденье, но тут же отдергиваю руку — эта штуковина существует. Вещь, на которой я сижу, на которую я оперся рукой, называется сиденье. Они нарочно все сделали так, чтобы можно было сидеть: взяли кожу, пружины, ткань и принялись за работу, желая смастерить сиденье, а когда закончили, получилось вот ЭТО. Они принесли это сюда, вот в этот ящик, и теперь ящик катится, качается, и стекла в нем дрожат, и в своей утробе он несет эту красную штуку. Да это же скамейка, шепчу я, словно заклинание. Но слово остается у меня на губах, оно не хочет приклеиться к вещи.
Я среди Вещей, среди не поддающихся наименованию вещей. Они окружили меня, одинокого, бессловесного, беззащитного, они подо мной, они надо мной. Они ничего не требуют, не навязывают себя, просто они есть.
Тошнота не прошла и вряд ли скоро пройдёт, но я уже не страдаю ею — это не болезнь, не мимолетный приступ, это я сам.
То, что существует, смешным быть не может.
Я смутно думал о том, что надо бы покончить счеты с жизнью, чтобы истребить хотя бы одно из этих никчемных существований. Но смерть моя тоже была бы лишней. Лишним был бы мой труп, моя кровь на камнях, среди этих растений, в глубине этого улыбчивого парка. И моя изъеденная плоть была бы лишней в земле, которая её приняла бы, и наконец мои кости, обглоданные, чистые и сверкающие, точно зубы, все равно были бы лишними: я был лишним во веки веков.
В маленьком раскрашенном мирке людей жест или какое-нибудь событие могут быть абсурдными только относительно — по отношению к обрамляющим их обстоятельствам. Например, речи безумца абсурдны по отношению к обстановке, в какой он находится, но не по отношению к его бреду.
Хотя бы этот корень — в мире нет ничего, по отношению к чему он не был бы абсурден. О, как мне выразить это в словах? Абсурден по отношению к камням, к пучкам желтой травы, к высохшей грязи, к дереву, к небу, к зеленым скамейкам. Неумолимо абсурден; даже глубокий, тайный бред природы не был в состоянии его объяснить.
Мир объяснений и разумных доводов и мир существования — два разных мира. Круг не абсурден, его легко можно объяснить, вращая отрезок прямой вокруг одного из его концов. Но круг ведь и не существует. А этот корень, наоборот, существовал именно постольку, поскольку я не мог его объяснить. Узловатый, неподвижный, безымянный, он зачаровывал меня, лез мне в глаза, непрестанно навязывал мне своё существование.
Краски, вкусы, запахи никогда не бывают настоящими, они не бывают собой, и только собой.
Зрение — абстрактная выдумка, очищенная, упрощённая идея, идея, созданная человеком. Эта чернота, эта аморфная вялая явь, переполняла собой зрение, обоняние и вкус. Но изобилие оборачивалось мешаниной и в итоге превращалось в ничто, потому что было лишним.
Существовать — это значит БЫТЬ ЗДЕСЬ, только и всего; существования вдруг оказываются перед тобой, на них можно НАТКНУТЬСЯ, но в них нет ЗАКОНОМЕРНОСТИ.
Случайность — это не нечто кажущееся, не видимость, которую можно развеять; это нечто абсолютное, а стало быть, некая совершенная беспричинность.
Ни у кого никакого права нет; существование этих людей так же беспричинно, как и существование всех остальных, им не удаётся перестать чувствовать себя лишними. В глубине души, втайне, они ЛИШНИЕ, то есть бесформенные, расплывчатые, унылые.
Существование — это не то, о чём можно размышлять со стороны: нужно, чтобы оно вдруг нахлынуло, навалилось на тебя, всей тяжестью легло тебе на сердце, как громадный недвижный зверь, — или же ничего этого просто-напросто нет.
Существование лишено памяти: от ушедших оно не сохраняет ничего — даже воспоминания. Существование всюду до бесконечности излишне, излишне всегда и всюду. Существование всегда ограничено только существованием.
К чему столько существований, если все похожи друг на друга? Зачем столько одинаковых деревьев? Столько потерпевших неудачу существований, которые упорно возобновляются и снова терпят неудачи, напоминая неловкие усилия насекомого, опрокинувшегося на спину.
Деревья, громоздкие, неуклюжие тела… Я рассмеялся, вспомнив вдруг, как в книгах описывают великолепную весну, когда всё лопается, взрывается и буйно расцветает. Нашлись дураки, которые толкуют о воле к власти, о борьбе за жизнь. Неужто они никогда не смотрели на животное или на дерево? Вот этот платан с пятнами проплешин, вот этот полусгнивший дуб — и меня хотят уверить, что это молодые, рвущиеся к небу силы? Или этот корень? Очевидно, мне должно представить его себе как алчный коготь, раздирающий землю, чтобы вырвать у нее пищу?
Деревья зыбились. И это значило, что они рвутся к небу? Скорее уж они никли; с минуты на минуту я ждал, что стволы их сморщатся, как усталый фаллос, что они съёжатся и мягкой, черной, складчатой грудой рухнут на землю. ОНИ НЕ ХОТЕЛИ СУЩЕСТВОВАТЬ, но не могли не существовать — вот в чём загвоздка. И они потихоньку, без малейшего пыла, варили себе свои крохотные варева: сок медленно, нехотя поднимался по сосудам, а корни медленно уходили в землю. Но каждую минуту казалось, что сейчас они плюнут на всё и сгинут. Усталые, старые, они продолжали свое нерадивое существование, потому что у них не хватало сил умереть, потому что смерть могла их настигнуть только извне
Всё сущее рождается беспричинно, продолжается по недостатку сил и умирает случайно.
Существованием заполнено всё, и человеку от него никуда не деться.
Я ничуть не удивился, я понимал, что это Мир, мир, который предстал передо мной во всей своей наготе, и я задыхался от ярости при виде этого громадного абсурдного существа. Нельзя было даже задаться вопросом, откуда всё это берется и как всё-таки получается, что существует какой-то мир, а не ничто. Вопрос не имел никакого смысла, мир был явлен всюду — впереди, позади. И до него ничего не было. Ничего. Не было такого мгновения, когда он не существовал. Вот это-то меня и раздражало: ведь ясное дело — не было НИКАКОГО смысла в том, что эта текучая личинка существует. Но не существовать ОНА НЕ МОГЛА.
Вещи выглядят словно бы сообщники.
Вещи были похожи на мысли, которые замерли на полдороге, которые забыли сами себя, забыли, что они думали, да так и повисли между небом и землей, вместе со странным крохотным смыслом, который не могут в себя вместить.
Начать кого-нибудь любить — это целое дело. Нужна энергия, любопытство, ослепленность… Вначале бывает даже такая минута, когда нужно перепрыгнуть пропасть: стоит задуматься, и этого уже не сделаешь.
Иногда плакать нельзя, или ты мразь.
На расстоянии всё кажется не таким уж скверным, и ты почти готов в это поверить.
Я не просто подавлен, оттого что расстаюсь с ней, — мне жутко при мысли, что я снова окажусь в одиночестве.
Люди выбирают невозделанную, бесплодную землю и громоздят на неё громадные полые камни. В этих камнях заключены запахи, они тяжелее воздуха. Иногда их выбрасывают через окно на улицы, и они остаются там, пока их не разметает ветер. В ясную погоду в город с одной стороны вливаются шумы и, пройдя сквозь все стены, выходят с другой; бывает, они кружат среди камней, которые раскаляются на солнце, а на морозе покрываются трещинами.
Я боюсь городов. Но уезжать из них нельзя. Если ты рискнешь оторваться от них слишком далеко, тебя возьмёт в свое кольцо Растительность. Растительность, протянувшаяся на километры и километры, ползет к городам. Она ждет. Когда город умрет. Растительность вторгнется в него, вскарабкается вверх по камням, оплетет их, проберется внутрь и разорвет своими длинными, черными щупальцами; она лишит отверстия света и повсюду развесит свои зеленые лапы. Пока города живы, надо оставаться в них, нельзя одному проникать под густые космы у городских ворот — пусть себе колышутся и лопаются без свидетелей. В городах, если повести себя умело и выбрать часы, когда животные переваривают пищу или спят в своих убежищах за грудами продуктов распада органического мира, можно встретить только минералы — наименее страшное из всего, что существует.
Я свободен: в моей жизни нет больше никакого смысла — всё то, ради чего я пробовал жить, рухнуло, а ничего другого я придумать не могу. Я ещё молод, у меня достаточно сил, чтобы начать сначала. Но что начать?
Я один на этой белой, окаймленной садами улице. Один — и свободен. Но эта свобода слегка напоминает смерть.
Проигрыш неизбежен всегда. Только подонки думают, что выиграли.
Буду жить как живой мертвец. Есть, спать. Спать, есть. Существовать вяло, покорно, как деревья, как лужа, как красное сиденье трамвая.
Привычки-то не умерли, они продолжают суетиться, потихоньку, незаметно они делают свое дело — моют меня, вытирают, одевают, словно няньки.
У городов бывает один-единственный день — каждое утро он возвращается точно таким, каким был накануне.
Великая, блуждающая природа прокралась в их город, проникла повсюду — в их дома, в их конторы, в них самих. Она не шевелится, она затаилась, они полны ею, они вдыхают ее, но не замечают, им кажется, что она где-то вовне, за двадцать лье от города.
Один из них почувствует, как что-то скребется у него во рту. Он подойдет к зеркалу, откроет рот — а это его язык стал огромной сороконожкой и сучит лапками, царапая ему небо. Он захочет её выплюнуть, но это часть его самого, придется вырвать язык руками.
Третий глаз, который постепенно распространится по всему лицу, конечно, лишний, но не более чем два первых.
Как я мог прижиматься губами к этому широкому лицу? Её тело мне больше не принадлежит.
Что-нибудь делать — значит создавать существование, а его и без того слишком много.
Все окружавшие меня предметы были сделаны из той же материи, что и я сам, — из своего рода гаденького страдания. Мир вне меня был так уродлив, так уродливы грязные кружки на столиках, коричневые пятна на зеркале и на переднике Мадлены, и любезная физиономия толстяка, любовника хозяйки, так уродливо само существование мира, что я чувствовал себя в своей тарелке, в своей семье.
И сердце сжимается — ведь это легкое покашливание иглы на пластинке никак не затронуло мелодии. Она так далеко — так далеко за пределами. И это мне тоже понятно: пластинка в царапинах, запись стирается, певица, быть может, умерла, я сейчас уйду, сяду в свой поезд. Но за пределами того, что существует, что переходит от одного сегодня в другое, не имея прошлого, не имея будущего, за пределами звуков, которые со дня на день искажаются, вылущиваются и тянутся к смерти, мелодия остается прежней, молодой и крепкой, словно беспощадный свидетель.
И потом нахлынула эта жуткая жарища, превращающая людей в лужи расплавленного жира.
Ни один существующий никогда не может оправдать существование другого.
691,3K Аноним2 января 2011 г.
Аноним2 января 2011 г.Подумать только, есть глупцы, которые ищут утешения в искусстве. Вроде
моей тетки Бижуа: "Прелюдии Шопена так поддержали меня, когда умер твой
дядя". И концертные залы ломятся от униженных и оскорбленных, которые,
закрыв глаза, тщатся превратить свои бледные лица в звукоулавливающие
антенны. Они воображают, будто пойманные звуки струятся в них, сладкие и
питательные, и страдания преобразуются в музыку, вроде страданий молодого
Вертера; они думают, что красота им соболезнует. Кретины.6912,6K Аноним22 ноября 2015 г.Читать далее
Аноним22 ноября 2015 г.Читать далееДа они всю жизнь прозябали в отупелом полусне, от нетерпения женились с бухты-барахты, наудачу мастерили детей. В кафе, на свадьбах, на похоронах встречались с другими людьми. Время от времени, попав в какой-нибудь водоворот, барахтались и отбивались, не понимая, что с ними происходит. Всё, что совершалось вокруг, начиналось и кончалось вне поля их зрения: смутные продолговатые формы, события, нагрянувшие издали, мимоходом задели их, а когда они хотели разглядеть, что же это такое, — всё уже было кончено. И вот к сорока годам они нарекают опытом свои мелкие пристрастия и небольшой набор пословиц и начинают действовать, как торговые автоматы: сунешь монетку в левую щёлку — вот тебе два-три примера из жизни в упаковке из серебряной фольги, сунешь монетку в правую щёлку — получай ценные советы, вязнущие в зубах, как ириски… к сорока годам их распирает опыт, который они не могут сбыть на сторону. По счастью, они наплодили детей, их-то они и заставляют потреблять этот опыт, не сходя с места. Они хотели бы внушить нам, что их прошлое не пропало даром, что их воспоминания потихоньку сгустились, обратившись в Мудрость.
66336
