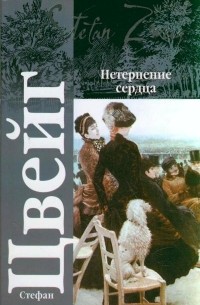
 Ваша оценка
Ваша оценкаЦитаты
 Anna_Sorrengail10 августа 2025 г.
Anna_Sorrengail10 августа 2025 г.«Слишком поздно я понял, что нельзя играть с чувствами тех, кто любит нас.»
16 Anna_Sorrengail10 августа 2025 г.
Anna_Sorrengail10 августа 2025 г.«Жалость — опасная вещь. Она как наркотик: кто раз её испробовал, тот уже не может без неё жить.»
18 livanovaki27 марта 2025 г.
livanovaki27 марта 2025 г."Что вам всем от меня нужно? У меня нет телефонной связи с Господом Богом" - Кондор
121 sonyaudaltsova3 марта 2025 г.Излечимо или неизлечимо, черное или белое? Как вы себе все просто представляете!19
sonyaudaltsova3 марта 2025 г.Излечимо или неизлечимо, черное или белое? Как вы себе все просто представляете!19 sonyaudaltsova3 марта 2025 г.Мы с самого начала готовы к их атакам (больных), на то мы поставлены и вразумлены, у каждого из нас вместе с болеутоляющим и снотворным потрачены успокаивающие слова и спасительная ложь.114
sonyaudaltsova3 марта 2025 г.Мы с самого начала готовы к их атакам (больных), на то мы поставлены и вразумлены, у каждого из нас вместе с болеутоляющим и снотворным потрачены успокаивающие слова и спасительная ложь.114 sonyabookworld12 января 2025 г.
sonyabookworld12 января 2025 г.
Я понимаю, что бессмысленно лишать себя удовольствия из-за того, что его лишены другие, отказываться от счастья потому, что кто-то другой несчастлив.111 GalinaZaksheeva3 января 2025 г.
GalinaZaksheeva3 января 2025 г.Протяните больному, одному из тех, кого так жестоко называют неизлечимыми, соломинку надежды, как он тут же соорудит себе из нее бревно, а из бревна — целый дом.
116 Mashka-promokashka5 декабря 2024 г.Общеизвестными аргументами он пытался доказать общеизвестную чушь, будто наше поколение, уже испытавшее одну войну, не позволит так легко втянуть себя в новую: едва объявят мобилизацию, как штыки будут повернуты в обратную сторону – уж кто-кто, а старые фронтовики вроде него хорошо знают, что их ждет.118
Mashka-promokashka5 декабря 2024 г.Общеизвестными аргументами он пытался доказать общеизвестную чушь, будто наше поколение, уже испытавшее одну войну, не позволит так легко втянуть себя в новую: едва объявят мобилизацию, как штыки будут повернуты в обратную сторону – уж кто-кто, а старые фронтовики вроде него хорошо знают, что их ждет.118 Mroja23 июля 2024 г.
Mroja23 июля 2024 г.Все, что выходит за рамки узкого и, так сказать, нормального кругозора обывателей, делает их сначала любопытным, а потом злыми.
116