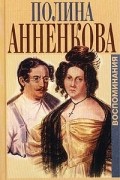Женские мемуары

- 912 книг
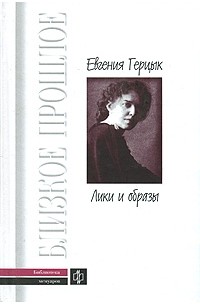
 Ваша оценка
Ваша оценкаЖанры
 Ваша оценка
Ваша оценка
Мне иногда кажется, что мы окружены космосом.
Нет, космос не где-то там, на небе, как бог. Он повсюду. Он полыхает сразу же за нашей кожей.
Космос тихого снега у ночного фонаря, космос весенней травы, космос зацветшей сирени, обжигающий холод тишины между тобой и любимым человеком, белый шум космоса в твоих ладонях: раскрытая книга.. или письмо.
Однажды, в детстве, надо мной зло подшутили мой старший брат и кузены.
Это было в деревне. Мне было лет 7.
Простой летний жаркий день, когда детские сердца, вместе с природой, тихо сходят с ума от скуки.
Наверное в такой июльский день и свершилось когда-то грехопадение.
На окраине нашего участка, был мрачноватый сарайчик для свиней. Метр в вышину, больше похожий на хижину сумасшедшего хоббита.
Свиней там не было, они где-то «паслись», не помню уже.
Братья мне сказали с искушающей улыбкой: Саш.. хочешь увидеть поросят?
- Хочу!
Поросята были в самом конце этого босховского сарайчика.
Туда можно было войти только на карачках.
Поросят, разумеется, там не было. Были какие-то нелепые, грязные булыжники.
Мне было обидно до слёз.
Уже ночью, в постели, вздрагивая от тихих слёз, я почему-то подумал, что быть может и рай похож на нечто подобное?
Идёшь на карачках по грязи, в потёмках, к чуду.. а там, в конце, нет ни ангелов, ни бога, ни любви, а лишь грязные камушки и бог знает как оказавшаяся тут перепуганная бабочка.
И не понятно, кто эта бабочка: бог? Ангел последний? Душа человека или его жизнь?
А теперь я думаю.. может, это любовь? Всё так же бессмертная, в мире, где нет бессмертия и рая.
В сарайчике я услышал, как тьма прикрылась, и стала герметичной, как сон и кошмар.
Говорят, есть специальные комнаты, тёмно-розоватые (Герцык сказала бы: тёмно-пурпурная тайна мира, любви), где звуки мира словно бы просеиваются сквозь ресницы сна: так их слышит эмбрион, в чреве матери.
В такой комнате, человек ощущает себя — обнажённой душой. За кожей матери — полыхает таинственный космос.
Так вот. Братья закрыли меня в сарайчике, и, жутко смеясь (тьма смеялась), сказали, что видят, как гонят свиней к сарайчику, огромных, свирепых.
Кто-то сказал: свиньи могут съесть человека целиком, и костей не останется даже.
Я рыдал, скрёбся в дверцу и молил выпустить меня. Стоял на коленях во тьме и в грязи и молил (я ещё не знал, что это было предчувствием моей будущей жизни).
Не знаю, что ощущал Достоевский во время казни, наверно нечто похожее. А быть может и нет.
Я был ребёнком, в отличии от Достоевского во время казни.
От ужаса происходящего, я перестал понимать, что это мои братья.
Я знал одно: я сейчас умру жестокой смертью.
Стал молиться ангелам, ковырять пальцами, до крови, сарайчик.
Доковырялся до какого-то Вифлеема и космоса.
Там была благодатная тишина, пылинки-звёзды мерцали в лучах, пробивающихся бог знает откуда, слышалось чьё-то дыхание. И ещё что-то.
Это был другой сарайчик, где были овечки, корова.
Я стал молиться им, от безысходности.
Потом упал в грязь и зарыдал бессильно.
Потом прибежала моя кузина. Тьма распахнулась. Весна света и голосов мира.
Сестра взяла меня на руки, обняла.. и что-то выговаривала братьям, но я уже почти ничего не слышал и не понимал что происходит.
Моя голова лежала на плече сестры, словно лёгкое крыло. Я смотрел на непривычный мир под наклоном, как почерк одинокого и несчастного человека.
Похожее чувство у меня возникло во время чтения удивительных дневников Жени Герцык, с той лишь разницей.. что уже мне хотелось её обнять, взять на руки и прижать к себе.
Не понимаю, почему дневники Герцык, не так популярны, как дневник Башкирцевой.
Они разные. Дневник Герцык, наверное для гурманов Серебряного века. Это как свернуть с привычной туристической тропки.. в вечерней Флоренции.
В них много религиозных и теософических блужданий. Мне это не близко, но меня волнует душа и её метания, крылатые изгибы женской души.
Если мы окажемся в благолепных сумерках и тишине старого флорентийского храма, мы ведь будем очарованы божественной красотой его витражей и т.д. Можно и не верующему восхищаться такими храмами.
А дневники Герцык — это таинственный храм женской души.
В них какая-то запредельная плотность мысли, сердца, снов о жизни и любви.
Говорят, что щепотка нейтронной звезды, тут, на Земле, весила бы как целый город.
Так и тут. Дневник Герцык, в равной мере мог бы принадлежать влюблённому молодому Платону, нежной Аспазии, сну Франциска Ассизского, уснувшего ночью в цветах за городом, или Цветаевой.. если бы она родилась в 16 веке, или тихому дождю над Гефсиманским садом, или шелесту листвы в парке возле церкви в Авиньоне, где Петрарка впервые увидел Лауру.
Квинтессенция Серебряного века, с его адом и раем любви, бредом религиозных экстазов, перед которыми экстаз святой Терезы — Бернини, кажется.. словно уставшая девушка задремала в сумерках кинотеатра на фильме Эрика Ромера.
Так вот, мне порой кажется, что космос полыхает повсюду, и то, что мы так легко называем — Серебряный век, эпоха Кватроченто, Эллинская эпоха… на самом деле — духовные планеты, населённые таинственной жизнью, приблизившиеся к нам, словно в фильме Ларса Фон Триера — Меланхолия.
Эти планеты и по сей день, вращаются недалеко от нас, но читая вот такие дневники, как у Герцык, поднесёшь руку к лицу и с улыбкой видишь, как из кончиков пальцев, в воздух, стекает лёгкий свет: люблю окунуть руку в горячую воду и потом пару секунд подержать её в морозилке. Потом поднесёшь её к лицу..
Эффект тот же, что будет в конце света.
Читая дневник, мне казалось, что душа Жени, словно бы ещё не рождена вполне, она словно мучается в клаустрофобическом пространстве жизни, тесной судьбы, пола даже.. как я, в том сарайчике в детстве.
Есть лунатические судьбы наизнанку, мучительные, странные.
Розанов назвал таких людей — Люди лунного света.
Большинство людей, рождаясь в мир — живут, порхают по жизни, словно бабочки, из света в тень и в тень из света.
А Женя, как и её удивительная сестрёнка — Аделаида (её просто обожала Цветаева! У меня с Адель, весной прошлого года, был даже роман: у неё просто волшебные письма, и жизнь в целом — Сивилла Серебряного века), словно бы чувствовали с детства, что они — иные.
И не случайно Женя в молодости называла себя — уродом. И физическим и нравственным. Уродом судьбы.
И снова в жизни сбывается сказка о гадком утёнке..
Есть души, судьбы, которые рождаясь, так и не начинают жить, они словно переходят из одной смирительной рубашки — чрева материнского, в иную — тесную и жаркую смирительную рубашку чрева судьбы, пола: они не могут расправить крылья, не могут жить, творить, любить, и они смутно понимают, что жить они смогут только… когда умрут.
А будет ли чем жить после смерти? Да и будут ли силы на это?
Всё равно что человек потерпел крушение в море и его изувеченное и измождённое тело прибило к берегу таинственного острова, где живут лучезарные ангелы, крылатый Достоевский, Пушкин..
Но сил уже нет подняться и жить. Разве что.. грустно улыбнуться им снизу.
Женя ощущала эту вселенскую усталость (на немецком есть термин — Weltschmerz, мировая скорбь, а тут — мировая усталость), уже при жизни (как и некоторые из нас, правда?), и тем больше горела, нет — тлела, желанием чего-то большего, небесного, что было где-то за гранью религии, науки, искусства, любви..
Она прошла свой крестный путь, от атеизма, увлечения мистикой, до православия.. и вновь шагнула с тропинки этой, в сторону, в тёмный лес.
Она полюбила небо и Христа, с той кротостью изувеченных, которые точно знают, что их не полюбят так, как других,нормальных, но они будут самыми преданными в любви, их любовь будет тихо светить над миром, как звезда путеводная. Или метеор.. путеводный.
Серебряный век, прежде всего удивителен своей таинственной синестезией: тела и души, пола, снов, религиозных и поэтических экстазов.
Словно бы и правда, таинственная планета приблизилась к земле и тела, пол, стали блаженно-прозрачны.
Но у таких раненых душ, как у Жени, и синестезия сходит с ума (как порой сердце сходит с ума в любви), словно кто-то незримый, звонкой серебряной ложечкой, перемешал в ней душу и тело, бессмертие, детство, пол.. как порой задумчиво мешают горячий чай, думая о чём-то своём.
Читая дневник, я с улыбкой замечал, что в описываемых Женей, наслаждениях от томика Канта, Платона и Ницше, больше секса, чем от желания секса с мужчиной, и не только желания.
Да и было ли у неё такое желание?
Она могла почувствовать лёгкий, словно бы цветущий аромат сирени на заре (именно — цветущий аромат, словно есть дополнительное, «инфракрасное» цветение, как и в любви, цветение.. словно бы привставшее на цыпочки), так томительно нежно, словно любимый человек, в постели, проснулся пораньше и любуется на своего смуглого ангела, и гладит его нежно-нежно, чтобы не разбудить, гладит сердце, память о детстве, гладит мечты и сны женщины.
Ах! Мужчина так не умеет!
Ладно, сознаюсь: я этот эпизод выдумал, вспомнив своего смуглого ангела, но у Жени было что-то похожее в общении с природой.
А ещё она могла вечером принять горячую ванну, и, нежным призраком в белом халатике, пробраться к себе в комнату, пока в соседней комнате, сестрёнка Адель, философ Шестов и Бердяев, ведут метафизические споры.
Вот, она укладывается в постель, с томиком Канта, или Стендаля и.. с улыбкой думает (ах, в любви и счастье, порой думает сама улыбка! Слёзы, кстати, тоже умеют думать.. и даже вспоминать. Есть что-то лунатическое в слезах и улыбке), что для полного счастья, ей не хватает.. плиточки шоколада.
Подобно Тургеневской девушке, спешащей на тайное свидание на ночь глядя, Женя, с влажными растрёпанными волосами, бежит легче ветра по переулочку вечера.. бежит к плиточке шоколада в магазине, словно на свидание к любимому.
Может так любят ангелы на земле?
А потом у ангела начался ад. Может рай и ад, это просто времена года жизни, как весна и осень? Какие ещё два? Или их больше? Любовь, дружба, вдохновение…
В любви, крылья не всегда растут за спиной. Порой они мучительно растут из груди, и похожи на сияющие папоротники, на узоры на заиндевевшем окне.
За ними порой не видно человека.
Так, в райских кущах, какое-то раненое и таинственное животное пробирается сквозь сияющие папоротники, раздвигая их.
Женя влюбилась в поэта Вячеслава Иванова.
Начались знаменитые, экстатические, мистические ночи на его «башне», куда бесприютными ангелами залетали поэты и философы, гомосексуалисты, юродивые, пророки и просто безумные.
Женя буквально обожествляла Иванова.
Это было странное время. Люди бредили мистикой, не как сейчас, для развлечения и от скуки, бредили богом, Христос мог вновь появиться, небо было повсюду, и Иванов был его пророком.
Иваном любил многих женщин, к которым сходил, как Зевс, к земным женщинам: то лебедем, то дождём, то стихом..
Женю он ласково называл — сестрёнка. Но порой страстно прижимал её к тёмной стене и жарко целовал.
Но Жене этого было мало. Она хотела, чтобы он принадлежал ей — духовно. Она мучилась до слёз, когда её ангел блуждал с другими по горним высям духа, страстей, а с ней был лишь нежным краешком души, судьбы.
Все мимолётные ласки Иванова, и телесные и духовные, слетали с её сердца, уст, груди и плеч, как осенняя и лёгкая листва.
Это не было асексуальностью. Тут какое-то 4-е измерение пола.
Я так и не понял из дневников, был ли секс между Женей и Ивановым.
Иной раз казалось, что был. А потом я грустно улыбался и мне казалось, что и Женя, словно ангел, и сама не знала, был ли секс у неё.
Мы же не знаем как ангелы занимаются сексом.
Если бы мы встретились с ангелом в лесу, поговорили о чём-то, наших волос коснулся бы яркий ветерок, ангел протянул бы нам сиреневый цветок, и, чеширски улыбнувшись крыльями — исчез в сумерках..
И вот мы возвращаемся домой и улыбаемся чуду.
Мы.. даже не поняли бы, что ангел занимался с нами сексом.
Мы даже не поняли бы, что мы.. уже беременны, ибо под грудью, сердце-ребёнок, тепло и как-то прозрачно бьёт ножками.
Придя домой, мы пишем чудесный стих… или странную рецензию: это наш ребёночек.
Так вот, не важно, был секс или нет. То, что было у Жени и Иванова на уровне души и снов — больше чем секс, и.. развратней, чем секс.
Это было время ада и рая для Жени. Качели в аду.
Помните, как в детстве, мы в одиночестве тихо сходили с ума на качелях в тенистом дворике, раскачиваясь всё выше и выше, и вот.. наши кеды с белыми носочками, блаженно замирают на миг над верхушкой дерева: совсем как кисточки художника, — вот-вот обмакнёт их в сладостную синеву.
Боже! А как тонко Женя описывает эти полёты и срывы! Остин и не снилось..
Когда она видела, как Иванов наслаждается с другими женщинами, а она, Женя, «урод», не могущая ему дать секс, огонь любви, но может лишь постелить у его ног.. душу свою, крылья и жизнь, тихо говорит, стоя у ночного окна, глядя в своё отражение: меня короновали этой ночью, — болью. Мне больно..
И вот уже до боли знакомый пейзаж ада любви: Женя лежит в постели. Её боль — больше неё, она словно бы покидает тело и расправляет крылья, и вот уже страдает целый дом: она — это дом: скрипнула дверь… ей больно. Дождь по окну — как мурашки боли, искорки боли, и жаркая подушка болит под головой, вместе с головой, и душа болит и память болит и сны болят… и нет, нет письма от ангела и не приходит он.
Так при расстреле, стоя у стены, ждут команды — пли, чтобы упасть в цветы и стать цветами, дождиком за окном любимого..
Жене снятся странные сны.(если такой сон рассказать на приёме у Фрейда, он сойдёт с ума от счастья и откроет шампанское).
Женя лежит в постели и вдруг понимает, что у неё на простыни, рядом, лежит окровавленная голова полицейского.
Она кричит, ей страшно. Кто-то вдруг входит к ней в комнату. У неё, словно у преступницы, красные от крови руки. Она хватает голову и пытается её спрятать под одеяло..
Или другой сон: Жене снится, как она и поэтесса Зинаида Гиппиус, жарко занимаются любовью.
Но в жизни они почти не знакомы, так, холодно обмениваются парой слов.
Жалко, что Гиппиус так и не узнала об этом сне. Вообще жалко, что мы порой не знаем о снах наших друзей. А может это и к лучшему..
В некоторой мере, это тоже синестезия: желание любить, обнять весь мир: мужчин и женщин, леса и реки, Канта, Тургенева, древнюю Элладу.
В Жене, любви — на тысячи лет, она ей разрывает грудь… но не может излиться в человечески-нормальных формах.
В пору моего студенческого атеизма, я порой смеялся над тем, как странно, словно в бреду, порой множатся святыни.
Например, в мире насчитывается столько кусочков от креста, на котором был распят Христос, что если их собрать, получится много крестов или.. один исполинский крест, на котором, как на гостеприимном столе, места хватит всем: и богу и людям и ночам бессонным в тоске по любимым и мукам искусства и детству израненному.
Это похоже на то, что свершалось у Жени в груди.
А ещё мне пришло на сердце (не на ум), как Моне писал свой Руанский собор.
Две картины: вечерний собор и собор днём.
Дневной — весит на 600 гр. больше. Там 17 слоёв краски.
Словно тело и душа.
Так и у Жени: бытие её духа, было более телесным, чем тело, а тело — неприкаянным призраком скользило по миру.
Меня поразил в дневнике образ Минцловой.
Знаменитая теософка тех лет (однажды загадочно исчезнувшая на вечерних улицах Москвы. Её больше никто не видел).
После смерти жены Иванова, она завладела его тоскующей душой, словно злой гоголевский колдун.
Старая дева, прикладывающаяся к бутылочке..
Вот она пришла к Жене в спальню. Женя лежит в сумерках, изнывая от любви к Иванову.
Минцлова ложится с ней рядом, слегка приобнимая. Жаркая, потная, пахнущая снами, грустью, мечтами, цветами осенними, запоздалыми.
Она ей что-то жарко говорит, почти бредит, о небесах, Иванове, ангелах.
Жене всё это — тяжело выносить и брезгливо даже, но.. вместе с тем — блаженно.
Почти как с Гиппиус, но на духовном уровне. Некое насилие.. но и сладость, ибо о небе родном бредит Минцлова, о тайнах души, о любимом Иванове, и эти слова жарко проникают в сердце Жени и исполинские крылья словно бы растут у неё из груди..
Представил на миг. А что.. если бы со мной в постели лежала.. старушка, или мужик, пьяный, потный, с даром таинственным, и, приобняв меня, бредил бы о моём смуглом ангеле, о тайнах её сердечка, чем она сейчас живёт, о чём думает, чему улыбается, что ей снится… думает ли она обо мне.
И жутко и.. блаженно как-то. Я быть может не удержался и поцеловал мужика. И оба, перепуганные, с криком, выбежали бы из комнаты (он бы бог знает что подумал: что его поцеловал ангел или… дух Тургенева).
Самый настоящий разврат, со слезами и придыханием, происходил в той постели Жени.
Дальше — больше. Минцлова, со сладострастием, переходит от слов о Вячеславе Иванове… к Бердяеву.
Мол, пророк не Иванов, а Бердяев (как Клеопатра назначала себе на ночь рабов в постель, так и Минцлова..), и снова ласкает сердце Жени в жаркой тьме, то разговорами о душе Иванова, то о душе Бердяева, то об ангелах.
В сумерках постели лежат две женщины… но шелест крыльев в постели, как в осеннем лесу на заре.
Словно в постели много много и мужчин и женщин и ангелов.
Ах, де Саду не снился такой разврат!
Особенно любопытная тут психологическая трагедия женщины.
Минцлова прожила всю свою жизнь без мужчины и любви. Но любовь разрывает ей грудь. Её не воспринимают как женщину. И вот.. она сделала из себя не ведьму, (как писал Булгаков), а пифию, и теперь в неё входит не мужчина, а тысячи ангелов, духов таинственных. Пушкин, Ницше, Платон.
В одном месте дневника Женя делает странную запись: странное чувство наслаждения, постыдного, запретного, от боли — самому любимому.
И тут я задумался. А ведь это на стыке инфернального и религиозного, но мы часто теряем это чувство и не додумываем его, и оно становится ложью и пошлость, грехом.
А в истоке — оно божественно (как и многие чувства).
Делая боль близкому, мы порой хотим ему добра, хотим освободить в нём небо, сжечь болью — ложное в нём, всю мишуру ложной морали, страхов, запретов, обид и гордыни, ущербности «я».
Но когда мы видим, что любимый ещё больше страдает от того, что горит в нём ложное и он сам. не в силах от него отсоединиться, то ад разгорается до небес, и мы бросаемся к любимому и сгораем вместе, не решаясь сделать шаг в сторону, т.к. все берега уже спутаны и мы потеряли себя, и любовь продолжается в огне и аду
Есть тайная мука в любви — у женщин она особенно ощутима, и часто не понятная мужчинам: боль от того, что перед любимым нельзя раздеться дальше, больше, чем просто сбросив одежду.
Хочется порой и тело сбросить, словно ненужную и полупрозрачную сорочку, к ногам любимого человека.
И мужчина порой хочет того же.
И вот уже два тела, лежат у постели, на полу.. а души и сны — в постели, как ангелы бесприютные.
Какая-то не от мира сего акустика чувств и даже событий, в дневнике Жени, словно акустика в старинном храме.
Вы когда-нибудь говорили в храме: люблю тебя!
Есть такие места в старинных храмах, шепнёшь в уголок, там где притаился перепуганный паучок: я люблю тебя!
И любимая услышит тебя в другом конце храма, и священник услышит и странно улыбнётся тебе.
В дневниках Жени — акустика разных времён: 16 век, 20, 21, 26, времена Платона..
В дневниках всего 2 раза мелькает имя Цветаевой, и всегда вместе с Софией Парнок.
Кажется, что читаешь что-то из времён Сафо.
Марины поэта, словно и нет, а есть две нежные влюблённые весталки. вечно спешащие куда-то.
В одном месте дневника, Женя описывает, как она живёт в одном доме с каким-то начальником, заведующим расстрелами и доносами.
Она как-то спросила его: что вы такой печальный? Коммунизм же?
А он: Эх.. коммунизм хорош днём. А ночью.. с ума сходишь от одиночества.
Мысль, словно из романов Андрея Платонова.
Это же можно сказать и о религиозных скитаниях Жени.
В послереволюционные годы страданий, всё ложное спало с её души, как листва.
Все эти теософические утончённости, вдруг предстали ей такой детской забавой, пусть даже в них и много истинного.
И время пришло лишь для последней любви, для самого главного.
Ещё совсем юной, Женя гениально записала в дневнике: содержание стихов Пушкина, совсем далеко от религии, даже если он пишет о боге, оно, словно ребёнок, блуждает бог знает где, мечтает, а форма стиха Пушкина — словно сама по себе молится богу.
Вот и жизнь Жени в итоге стала по-пушкински простой.
Неужели для этого всегда нужно пройти через ад?
Читая в жизни Жени в оккупированном немцами Курске, складывалось впечатление, что человек из времён Данте, из солнечной Флоренции тех времён, переместился в ад 20-го века. Удивительное чувство.
Поразило до мурашек, словно это последнее чудо Серебряного века: умерла близкая знакомая Жени.
Женщина лежит в чёрном платье, и на её грудь она положила бутон алой розы.. который вскоре раскрылся на мёртвой груди.
Жизнь — как строчка Пушкина, зацвела на груди.
Женя много лет жила вместе с этой женщиной: она была прикована к постели.
Женя за ней ухаживала.
Перед сном, лёжа в постели, говорили о Пушкине, смерти, Цветаевой..
И эта несчастная женщина, засыпая, кротко говорила Жене: пожелай мне не проснуться..
Для тех, кто хочет для себя открыть редчайшее и удивительное имя Серебряного века — Женю Герцык, лучше выбирать именно это издание — Лики и образы.
На сегодняшний день оно наиболее полно представляет прозу Герцык. Там и её воспоминания и дневники и чудесное эссе об Эдгаре По и письма.
Эта книга — храм Серебряного века, куда не ходят толпами, но лишь с близкими друзьями. Или с душой своей неприкаянной и одинокой.
Там самая "Башня" Вячеслава ИвАнова.
С левой стороны сидит та самая Минцлова. Рядом с ней - Иванов. Справа от Иванова - снова улетевший за облака, поэт Михаил Кузмин. Женя Герцык улыбается над правым плечом Минцловой. 1908 г.
А это уже в салоне у сестры Жени - Адель Герцык, в котором Марина Цветаева познакомилась с Софией Парнок.
Марина на фото выглядывает робким призраком в тёмном пальто.
Позади неё, в отдалении, философ Бердяев. У него сломана нога.
На переднем плане с ребёнком сидит Адель Герцык с сыном Никой.
С правой стороны, улетевшая в облака - Женя Герцык, а возле неё дурачится старший сын Адель - Далик.
Его расстреляют по ложному доносу в 37 году. Он женится на бывшей жене поэта Ходасевича, которая в два раза старше него: его запоздалый роман с Серебряным веком.
После Далика осталось много рукописей. Он обещал стать изумительным писателем.
А это уже в Крыму. Жена Бердяева, сам Бердяев. В центре стоит Адель Герцык, приобнимая сидящую сестрёнку - Женю. С правой стороны стоит Макс Волошин и смотрит на Любовь Жуковскую, которой в жизни предстоит крестный путь.
Бердяев с женой. Женя посередине.
У Бердяева с Женей была удивительная платоническая любовь, которая порой мерцала чем-то большим.
Женя и Любовь Жуковская. Та самая женщина, с розой на груди..

Разыскал воспоминания ЕГ под влиянием отрывка в сборнике об Ильине («Русский путь»).
Воспоминания Е.Герцык – обаяние оригинального женского ума и владение словом.
Это не наивная Ирина Одоевцева или простовато хваткая «княгиня Аховская».
Ностальгически о детстве не удержалась от тычка «русакам»: переедали
Откровенно и с изысканностью о своей любви и о романе сестры.
Далее очень оригинально о «монстрах зильбер века», «трудах и днях»
Вячеслав Иванов, оргаистические вечера и ночи на «башне», Волошин. Шварцман, Белибердяев – пестряж чёртоискателей. Через книжные страницы не понять полностью той эпохи, не почувствовать. А со страниц А.Толстой, прелестная Крандиевская, полунемцы Ильин и Эрн, С.Булгаков, Гершензон, опять сестра и вечерняя вкуснятина. Утерянный рай.
Катастрофа все ближе, вокруг миражи и самоотравление ими, но как ИНТЕРЕСНО.
Будет что вспоминать, под большевиками, под немцами. Молодость – поездки по европам, прогулки швейцарские, парижские, римские. Старость и смерть в глухой деревне.
После блестящей молодости стоическое дожитие в нужде и горестях.
Но нам ведь и вспомнить нечего будет, помимо пошлой скуки и исчерпанности смыслов ничтожного существования. Променяли бы? Да не меняют...
Признаться, воспоминания Герцык я стал читать ради сведений об Иване Ильине. Очень интересно:
Но одну дружбу-вражду не хочу обойти молчанием. Началась она много раньше описываемых лет: в 1906 г., наша двоюродная сестра вышла замуж за студента Ильина {Иван Александрович Ильин, впоследствии известный философ.}. Недавний революционер эсдек, (он был на памятном съезде в Финляндии в 1905 г.), теперь неокантианец, но сохранивший тот же максимализм, он сразу порвал с родней жены, как раньше со своей насквозь буржуазной, но почему-то исключением были мы с сестрой, и он потянулся к нам со всей присущей ему пылкостью. Двоюродная сестра не была нам близка, но – умная и молчаливая – она всю жизнь делила симпатии мужа, немножко ироническая к его горячности. Он же благоговел перед её мудрым спокойствием.
Молодая чета жила на гроши, зарабатываемые переводом: ни он, ни она не хотели жертвовать временем, которое целиком отдавали философии. Оковали себя железной аскезой – все было строго расчислено, вплоть до того, сколько двугривенных можно в месяц потратить на извозчика; концерты, театр под запретом, а Ильин страстно любил музыку и Художественный театр. Квартирка – две маленькие комнаты – блистали чистотой – заслуга Натальи, жены. Людей, друзей в их обиходе не было. Ильин оставлен при Университете по кафедре философии права, но теперь, влекомый к чистой философии, возненавидел и право, и профессора по кафедре – Новгородцева, и сотоварищей. Всегда вдвоем – и Кант. Позднее Гегель, процеженный сквозь Гуссерля. И так не год, не два. Винт завинчивался все туже. И вот как отдушина – влечение к сестрам, таким непохожим на них, носимым туда-сюда прихотью сменяющихся вкусов: Ницше, античность, модернизм, восточная мистика… То, что отвращало в других – в нас влекло. Бывают такие причуды.
Когда же наши пристрастия из книжных превратились в живых людей, и Ильины стали встречать у нас Волошина, Бердяева, Вяч. Иванова, стало плоше: с неутомимым сыском Ильин ловил все слабости их, за всеми с торжеством вскрывал «сексуальные извращения». И между нами и Ильиными прошла трещинка, вражда, сменявшаяся опять моментами старинной дружественности. Способность ненавидеть, презирать, оскорблять идейных противников была у Ильина исключительна, и с этой, только с этой стороны знали его москвичи тех лет, таким отражен он в Воспоминаниях Белого. Ненависть, граничащая с психозом. Где, в чем источник её? Может быть отчасти в жестоких лишениях его юных лет: ведь во имя отвлеченной мысли он запрещал себе поэзию, художественный досуг, все виды сладострастия, духовного и материального, все, до чего жадна была его душа. Знакомство с Фрейдом было для него откровением: он поехал в Вену, провел курс лечения-бесед, и сперва казалось, что-то улучшилось, расширилось в нем. Но не отомкнуть и фрейдовскому ключу замкнутое на семь поворотов.
В годы, о которых я пишу, Ильины уж не нуждались – то ли наследство какое-то – помню его большой кабинет с рядами книг, с камином и кожаной мебелью. Как не русским был он в своей аскетической выдержке, так нынче не по-русски откровенно наслаждался комфортом, буржуазным благополучием. По матери – немецкой крови, светлоглазый, рыжеватой масти, высокий и тонкий, Иван Ильин – тип германца. И как бывает порой с русскими немцами, у него была ревнивая любовь к русской стихии – неразделенная любовь. Страстно любил Художественный театр, выискивал в игре его типично русские черты, любил Чехова, любил Римского-Корсакова так, как любят любовницу, ненавидя тех, кто тоже смеет любить; любил, не всегда различая некоторую безвкусицу, например в сусально русских былинах Ал. Толстого. Выйдет из кабинета на маленький заснеженный балкончик и влюбленно смотрит на «свою Москву», говорит подчеркнуто по-московски, упивается пейзажем Нестерова. В послереволюционные годы он близко сошелся с самим художником, и тот написал его с книгой в руках идущим вдоль тусклого озера и скудных березок – этаким светловолосым мечтателем. И вправду, за злобными выпадами копошились в нем нежнейшие ростки.
В 15-16-ые годы уже не мы одни с сестрой объект его почти сентиментальной дружбы – он упоен сближением с композитором Николаем Метнером, предан Любови Гуревич, дружит с одним умным и тонким евреем, толкователем Ницше, – и везде-то его дружба напарывается на шипы: здесь враждебный ему Ницше, а Метнер, приятель Белого, особенно ненавистного Ильину. К нам, в Кречетниковский пер., они теперь заглядывали редко: трудно выкроить вечер, чтобы у нас наверняка никого не было. А придет Ильин весь дружественно раскрытый, и не нам одним – всему, что окружает сестру: благоволит немножко свысока к её мужу {Дмитрию Евгеньевичу Жуковскому, издателю журнала «Новый путь» 1903-1904.}, удостаивая его философской дискуссии, возится с мальчиком, бегает по комнате, дурачится. Едко и зло пародирует молодых московских когенианцев, риккертианцев… Смеемся, хотя по нас что презираемый им Коген, что чтимый Гуссерль – одна мура! Но вот раскрытая книга с авторской надписью на столе – толчок к язвительному наскоку на кого-нибудь из наших друзей. Мы на дыбы. Слово за слово все резче. Расстаемся в холоде. А через день от него покаянное письмо. И опять все сызнова. Скучная канитель. Думается, что если бы его писательский дар был ярче и ему удалось выбросить из себя злобу в желчных статьях, он в жизни был бы мягче. Но, упрямо насилуя себя, он годы и годы пишет все одну книгу о Гегеле. Мне так и не довелось прочесть её. И не удержала в памяти его толкования Гегеля, и вообще – стержня лично его, ильинских мыслей: долгими и бесплодными были отношения – совсем незачем – так, грех попутал.
Но нынче, в час суда над прошлым, спрашиваю себя, не во мне ли отчасти вина? Будь я сама тогда свободной от чужих влияний, будь до конца собою, разве не соприкоснулась бы я с глубью его духа – все равно, для осуждения ли или для помощи?
В двадцать втором году Ильин среди многих других был выслан за границу. Они осели прочно в Берлине и с тех пор канули для нас в неизвестность. Жив ли он? Во всяком случае встреча с фашизмом не могла не быть ему и возмездием и суровым испытанием.

Признаться, воспоминания Герцык я стал читать ради сведений об Иване Ильине. Очень интересно:
Но одну дружбу-вражду не хочу обойти молчанием. Началась она много раньше описываемых лет: в 1906 г., наша двоюродная сестра вышла замуж за студента Ильина {Иван Александрович Ильин, впоследствии известный философ.}. Недавний революционер эсдек, (он был на памятном съезде в Финляндии в 1905 г.), теперь неокантианец, но сохранивший тот же максимализм, он сразу порвал с родней жены, как раньше со своей насквозь буржуазной, но почему-то исключением были мы с сестрой, и он потянулся к нам со всей присущей ему пылкостью. Двоюродная сестра не была нам близка, но – умная и молчаливая – она всю жизнь делила симпатии мужа, немножко ироническая к его горячности. Он же благоговел перед её мудрым спокойствием.
Молодая чета жила на гроши, зарабатываемые переводом: ни он, ни она не хотели жертвовать временем, которое целиком отдавали философии. Оковали себя железной аскезой – все было строго расчислено, вплоть до того, сколько двугривенных можно в месяц потратить на извозчика; концерты, театр под запретом, а Ильин страстно любил музыку и Художественный театр. Квартирка – две маленькие комнаты – блистали чистотой – заслуга Натальи, жены. Людей, друзей в их обиходе не было. Ильин оставлен при Университете по кафедре философии права, но теперь, влекомый к чистой философии, возненавидел и право, и профессора по кафедре – Новгородцева, и сотоварищей. Всегда вдвоем – и Кант. Позднее Гегель, процеженный сквозь Гуссерля. И так не год, не два. Винт завинчивался все туже. И вот как отдушина – влечение к сестрам, таким непохожим на них, носимым туда-сюда прихотью сменяющихся вкусов: Ницше, античность, модернизм, восточная мистика… То, что отвращало в других – в нас влекло. Бывают такие причуды.
Когда же наши пристрастия из книжных превратились в живых людей, и Ильины стали встречать у нас Волошина, Бердяева, Вяч. Иванова, стало плоше: с неутомимым сыском Ильин ловил все слабости их, за всеми с торжеством вскрывал «сексуальные извращения». И между нами и Ильиными прошла трещинка, вражда, сменявшаяся опять моментами старинной дружественности. Способность ненавидеть, презирать, оскорблять идейных противников была у Ильина исключительна, и с этой, только с этой стороны знали его москвичи тех лет, таким отражен он в Воспоминаниях Белого. Ненависть, граничащая с психозом. Где, в чем источник её? Может быть отчасти в жестоких лишениях его юных лет: ведь во имя отвлеченной мысли он запрещал себе поэзию, художественный досуг, все виды сладострастия, духовного и материального, все, до чего жадна была его душа. Знакомство с Фрейдом было для него откровением: он поехал в Вену, провел курс лечения-бесед, и сперва казалось, что-то улучшилось, расширилось в нем. Но не отомкнуть и фрейдовскому ключу замкнутое на семь поворотов.
В годы, о которых я пишу, Ильины уж не нуждались – то ли наследство какое-то – помню его большой кабинет с рядами книг, с камином и кожаной мебелью. Как не русским был он в своей аскетической выдержке, так нынче не по-русски откровенно наслаждался комфортом, буржуазным благополучием. По матери – немецкой крови, светлоглазый, рыжеватой масти, высокий и тонкий, Иван Ильин – тип германца. И как бывает порой с русскими немцами, у него была ревнивая любовь к русской стихии – неразделенная любовь. Страстно любил Художественный театр, выискивал в игре его типично русские черты, любил Чехова, любил Римского-Корсакова так, как любят любовницу, ненавидя тех, кто тоже смеет любить; любил, не всегда различая некоторую безвкусицу, например в сусально русских былинах Ал. Толстого. Выйдет из кабинета на маленький заснеженный балкончик и влюбленно смотрит на «свою Москву», говорит подчеркнуто по-московски, упивается пейзажем Нестерова. В послереволюционные годы он близко сошелся с самим художником, и тот написал его с книгой в руках идущим вдоль тусклого озера и скудных березок – этаким светловолосым мечтателем. И вправду, за злобными выпадами копошились в нем нежнейшие ростки.
В 15-16-ые годы уже не мы одни с сестрой объект его почти сентиментальной дружбы – он упоен сближением с композитором Николаем Метнером, предан Любови Гуревич, дружит с одним умным и тонким евреем, толкователем Ницше, – и везде-то его дружба напарывается на шипы: здесь враждебный ему Ницше, а Метнер, приятель Белого, особенно ненавистного Ильину. К нам, в Кречетниковский пер., они теперь заглядывали редко: трудно выкроить вечер, чтобы у нас наверняка никого не было. А придет Ильин весь дружественно раскрытый, и не нам одним – всему, что окружает сестру: благоволит немножко свысока к её мужу {Дмитрию Евгеньевичу Жуковскому, издателю журнала «Новый путь» 1903-1904.}, удостаивая его философской дискуссии, возится с мальчиком, бегает по комнате, дурачится. Едко и зло пародирует молодых московских когенианцев, риккертианцев… Смеемся, хотя по нас что презираемый им Коген, что чтимый Гуссерль – одна мура! Но вот раскрытая книга с авторской надписью на столе – толчок к язвительному наскоку на кого-нибудь из наших друзей. Мы на дыбы. Слово за слово все резче. Расстаемся в холоде. А через день от него покаянное письмо. И опять все сызнова. Скучная канитель. Думается, что если бы его писательский дар был ярче и ему удалось выбросить из себя злобу в желчных статьях, он в жизни был бы мягче. Но, упрямо насилуя себя, он годы и годы пишет все одну книгу о Гегеле. Мне так и не довелось прочесть её. И не удержала в памяти его толкования Гегеля, и вообще – стержня лично его, ильинских мыслей: долгими и бесплодными были отношения – совсем незачем – так, грех попутал.
Но нынче, в час суда над прошлым, спрашиваю себя, не во мне ли отчасти вина? Будь я сама тогда свободной от чужих влияний, будь до конца собою, разве не соприкоснулась бы я с глубью его духа – все равно, для осуждения ли или для помощи?
В двадцать втором году Ильин среди многих других был выслан за границу. Они осели прочно в Берлине и с тех пор канули для нас в неизвестность. Жив ли он? Во всяком случае встреча с фашизмом не могла не быть ему и возмездием и суровым испытанием.

Ты знаешь, как нестерпимы для меня все наставления и морализирования. Навязчивость их, обычное неуважение к живой личности во имя принципа заставляет из одного протеста поступить наоборот...