![Обложка подборки Morrison Hotel Library [bonus-track! см. конец]](https://i.livelib.ru/selepic/014899/l/a170/Morrison_Hotel_Library_bonustrack_sm._konets.jpg)
Morrison Hotel Library [bonus-track! см. конец]

- 109 книг
Это бета-версия LiveLib. Сейчас доступна часть функций, остальные из основной версии будут добавляться постепенно.
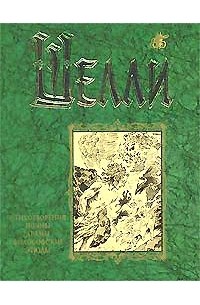
 Ваша оценка
Ваша оценкаЖанры
 Ваша оценка
Ваша оценка
Люблю лежать с книгой на груди.
Она раскрыта — как сердце моё.
Я мысленно лежу в траве, весенний ветерок словно бы листает сердце моё, воспоминания, сны..
И вдруг, ветерок замер, и побледнел, словно прочитал что-то ужасное.
Ветерок сделал пару шагов назад, спиной, оступился и упал в цветы. Цветы задрожали..
И дальше, дальше пронеслась дрожь травы, и вот уже зашумела невидимая листва дерева вдалеке, в мурашках первых звёзд.
Тьма покрыла землю. Видны отсветы молний. Последний самолёт словно бы покидает землю и летит в сторону созвездия Ориона.
Глажу томик Шелли у себя на груди, словно раненую красоту: красота -подранок.. или я сердце своё израненное глажу?
Книга перелистывается на груди словно сама собой — ветра уже нет.
Мира, быть может, тоже нет.
Словно белые крылья прорезаются у меня из груди..
Меня волнует вопрос: возможен ли кошмар, превращения ангела — в нечто трагически-жуткое, на манер кафкианского превращения?
Лежит ангел в цветах в раю. Спит.
Ему снится что-то земное, смутное, жуткое.
Вот, во сне, затрепетали-забредили на ветру, его крылья.
Они потемнели..
Тело ангела, ни с того ни с сего, покрывается безобразными шрамами, превращается в грубую чешую.
Белоснежные крылья возле ангела, словно подожжённый тополиный пух, на земле, быстро тлеют, вместе с цветами, образуя тёмный круг.
Круг покачнулся тёмным светом и словно бы прорвался, лопнул мрачным тлением, распространяясь дальше и дальше, и вот, рай уже весь охвачен огнём..
Ангел вскрикивает, просыпается.. хочет пошевелить крыльями — не может. Парализован, изувечен.
Он с мольбой смотрит на прекрасных ангелов пролетающих над ним, зовёт их на помощь.. не слышат.
Вместо нежнейшего голоса, с его уст слетает безобразный хрип.
Он пробует вновь пошевелить обрубками крыльев… но они истлевают от напряжения.
Сияние цветов замерло. Кто-то приближается к ангелу..
Бог? Сейчас, сейчас ему помогут..
Может это жуткий сон?
Или он, всем сердцем сострадая несчастным людям и милым животным на земле, случайно перенёс этот ад боли на небо?
Ах, сейчас, сейчас всё наладится, бог рядом…
Кто-то стоит над ангелом. Лица не видно — тёмный силуэт: свет оставлен за плечами, как ненужные крылья. Всё тонет в тени..
Шелли, милый… какие ужасные образы ты пробудил в моём сердце своей прекрасной и жестокой трагедией!
Шелли впервые увидел портрет Беатриче Ченчи, в Риме, в 1819 году, и был заворожён её трагической и кроткой красотой.
Позже, из малоизвестных рукописей он узнал подробности жизни этой девушки.
Вот так смотришь на её портрет… прекрасная девушка, какая-то ласковая и уставшая красота, какая бывает у забытых цветов у окна, прижавшихся к голубой прохладе стекла.
Тютчев бы сказал: та кроткая улыбка увяданья, что в существе разумном мы зовём, божественной стыдливостью страданья..
А если узнаешь историю её жизни — мурашки по сердцу.
Гвидо Рени, сделал портрет Беатриче — в тюрьме. За несколько дней перед её казнью: ей отрубили голову на мосту, с символическим названием — святой ангел (это не спойлер: Шелли в предисловии уже говорит об этом).
Что же такого ужасного сделала эта прекрасная девушка с печальными глазами души?
Она просто пыталась жить на этой безумной земле..
Она стала мученицей, пленным ангелом в аду своего чудовища-отца, словно бы сошедшего со страниц Маркиза де Сада.
Много пролитой крови было на руках Ченчи.
Но в историю он вошёл своим мрачным преступлением: насиловал свою дочь.
Часто держал Беа и братика, в подвале, в кандалах.
В итоге, ангел не выдержал мук, и в его сердце, разрывая грудь, проросли цветы… зла — убийство.
Меня однажды поразил фильм — Мученицы (2008).
Как эмпату, мне физически было дурно его смотреть. Своим бледным видом я перепугал моего смуглого ангела. А она перепугала меня: два бледных призрака, взявшись за руки на диване, смотрели кино…
По сюжету, некая секта учёных (религиозные фанатики), похищала девушек и истязала их, подключённых к датчикам.
По их теории, нечеловеческая боль пробуждала в теле что-то небесное (доказательство рая): тело сочилось светом и кровью.
Душа и тело, словно брат и сестра, трепетно прижались друг к дружке в уголке ада; глаза из бредили, видели рай..
Нечто похожее произошло и с Беатриче.
Символичное имя: что там Данте с его мультипликацией ужасов ада?
То, что пережила Беатриче… вот где ад.
Самый её портрет напоминает Царевну Лебедь Врубеля, правда?
Словно ангел, сама красота, Афродита, покидает людей, входя в вечерние волны моря, бросая прощальный взгляд на этот безумный мир.
Шелли отклонился от буквального следования истории: Беатриче не сама убивает отца-изувера.
Более того, в драме нет описания изнасилований, но между тем, общий ужас ужас происходящего поднят до апокалиптических высот.
Шелли, как родоначальник экзистенциальной пьесы (в этом смысле печально, что многие видят в трагедии, лишь романтическую пьесу начала 19 века), как декоратор театра в аду, «укрутил», как свет в комнате, тени событийности, ужаса, переместив их в слова: на устах героев пьесы, как на подмостках мира в конце времён — распинается и воскресает бог, и вновь распинается и умирает человечность и надежда, рушатся все ценности и мир словно бы замирает в невесомости, простёртый в пустоте, словно никому не нужное, израненное и смрадное существо.
Трагедией Шелли, восхищались Байрон, Уайльд, Бернард Шоу, Бальмонт, ставя её в один ряд с трагедиями Шекспира (в этом плане становится ужасно грустно, что Мэри Шелли знают гораздо лучше её гениального мужа: к слову, сама Мэри тяжело переживала этот момент).
Но мне интересно другое: читал ли Достоевский — Шелли?
Дело в том, что трагедия Шелли — предвосхищает Карамазовых.
Более того, если бы у произведений искусств были сны, то трагедии Ченчи, снился бы роман Достоевского.
Символично.. что Шелли писал свою трагедию, когда мама Достоевского была беременна им.
Здесь хочется нажать рецензию на паузу.
Читатель, откроющий трагедию Шелли, увидит незнакомое имя — Ли Хант: ему Шелли и посвятил трагедию.
Читатель прочтёт имя, и перевернёт страницу: ну, Ли Хант и Ли Хант…
Всё же есть водяные узоры судьбы и искусства, на которые мы до времени не обращаем внимания.
Ещё при жизни Шелли, многие находили сходство между ним и изображением Беатриче.
Отец Шелли, не был «Ченчи», но был тираном, попортив ему и Мэри много крови, да и сёстрам Шелли (к слову, одну сестрёнку звали — Мэри. Мэри Шелли).
Шелли дописывал трагедию в Ливорно.
Именно близ Ливорно, яхта Шелли попала в шторм и затонула.
Шелли был в Пизе у своего друга — Ли Ханта: он был последним, кто видел Шелли живым.
Шелли любил дом Ли Хантов, словно ребёнок, кувыркался, играл с детьми своего друга и его жены Марианны, которой он посвятил одну из своих лучших поэм — Сон Марианны.
У неё часто болела голова, и она любила откинуться в кресле, закрыть глаза и слушать как Шелли читает ей стихи, поглаживая её голову: стихи Шелли её исцеляли.
Для Марианны и Ли Ханта, настоящей трагедий была гибель Шелли: некоторые даже говорили, что неизвестно, кто больше переживал боль утраты: Мэри, или Марианна и Ли Хант.
Когда тело Шелли сжигали на берегу моря, его сердце из огня выхватил его друг Трелони (корсар).
Позже он передал его Мэри, но до этого.. оно некоторое время было в доме Ли Ханта и Марианны: они не хотели его никому отдавать: они лелеяли сердце Шелли, словно странного ребёнка-призрака.
В этом смысле потрясают тени гибели Шелли в трагедии «Ченчи», то тут то там, почти не к месту, мерцают образы грозы на море, шторм, обломки корабля и погибшего матроса..
Отжимаю паузу..
Вы когда-нибудь размышляли о том, например — а что, если бы среди братьев Карамазовых, была сестра?
Какой бы она была?
Как в романе Достоевского, все братья, так или иначе, виновны в убийстве отца-самодура, так и у Шелли.
Удивительно совпадают многие моменты в романе Достоевского и трагедии Шелли: изнасилованная юродивая и сын родившийся от неё, убивающий отца, словно призрак несчастной.
Ченчи изнасиловал дочку, доведя её, ангела, до юродства.
Даже образ «чёрта у Ивана», по своему мерцает в трагедии Шелли.
«Иван» — это старший брат Беатриче. Джакомо — вечно сомневающийся в себе, мире и боге, живущий чуточку отдельно от всех.
А кто же чёрт? Тут ещё интересней: это молодой монах, в которого.. влюблена Беатриче.
Если бы я ставил Ченчи в театре, я бы обыграл эту тему, пусть и не буквально (вроде Жан Кокто ставил трагедию Шелли) — чёрт, в сутане монаха, творит своё вечное зло под маской добра.
По сути, это центральный образ всей трагедии и Папа Римский выступает в роли «чёрта», за вознаграждение прощающий Ченчи его убийства, изнасилования и казнящий несчастную Беатриче.
По сути, Шелли делает экзсистенциальное сближение этой драмы и суда, с распятием Христа.
В конце трагедии, «наш римский Иван», даже захочет драться на шпагах — с «чёртом».
Чёрт у Достоевского, мечтал воплотиться в «семипудовую купчиху (первый, гротескно-забавный каминг-аут в литературе).
Чёрт в трагедии Шелли — желает скрыться от погони, сменить очередную личину: он вполне мог бы переодеться в женщину..
Как известно, в черновиках Достоевского, во второй части Карамазовых, Алёша должен был разувериться в боге, примкнуть к анархистам и совершить покушение на царя.
Т.е. прослеживается апокалиптика тройственного отрицания-убийства отца: земного, небесного, государственного.
Шелли следует этой же апокалиптической триаде: в трагедии, добро и зло — размыты и находятся как бы в невесомости: идеал многих псевдоинтеллектуалов и либералов: нет бога, нет и высшей морали: всё относительно, и добро и зло. То что выгодно мне — то и хорошо, то и мораль: Я — сам себе бог. Вполне себе демократия.
Ченчи у Шелли — это мрачная карикатура на бога, точнее, на его изувеченный образ, на ту жестокую и тлеющую свободу, которая занимает место бога, если его нет.
У каждого из нас есть мысли, которых мы стесняемся или боимся.
Но эти мысли есть, пусть и мимолётные, мысли-призраки: мир и души вообще населены призраками, и их гораздо больше людей, просто мы не всегда это замечаем.
В сердцах, мы можем и смерти пожелать кому-то и помыслить самый тёмный разврат.
А у Ченчи, жизнь души идёт в рифму с жизнью тела.
Что душа хочет и может, то она и делает, расправляя в мир свои тёмные крылья.
В этом смысле в трагедии Шелли потрясает эта апокалиптическая зримость души — падшей.
Очень современная проблема, на самом деле: если главное в жизни — Я, то мир, его страдания, лишь утоление этого Я, и душа фактически подстраивается рабски под самые инфернальные и мимолётные движения души, создавая адскую реальность: вполне себе рай толерантности, где душа и тело — равны, если бы не одно но: совершенно исключёны бог и небо из этой конструкции, более того, небо и бог - низведены до земного копошения, придавлены к грязи страстей и ложных свобод.
Истоки инфернальной свободы Ченчи и его разврата — просты и современны как никогда: он живёт в аду своей пустоты, и чтобы она его не жгла — а в грехе, и любовь жжёт, как заметил ещё Тютчев, — он словно бы выравнивает «атмосферное давление» в душе и жизни: ему словно причиняет боль красота и чистота Беатриче.
Она — воплощение его совести в мире.
Представляете? Реальный ад и кошмар для мерзавцев — встретиться со своей совестью из плоти и крови.
К слову, это проливает свет и на экзистенциальную и необъяснимую ненависть, противостояние между иными культурами, странами даже.
В трагедии «Ченчи» есть дивные сны искусства и рифм этих снов: например, жуткая аллюзия на Тайную вечерю… в аду, где Ченчи собрал гостей для радостной вести: его дети — погибли, и он пьёт вино, словно их кровь, к ужасу собравшихся.
Но все молчат.. Молчание вообще, главный персонаж трагедии.
Помните главу о Великом инквизиторе в Карамазовых?
Второе пришествие Христа… и тоже, в 16 веке, к слову, как и во время Ченчи.
И снова Христос оказывается ненужным, опасным: за него говорит инквизитор: людям не нужен ни бог, ни любовь, ни красота и свобода — им нужны суррогаты всего этого, приятные, карманные, не отягощающие совести.
Христос молчит…
В трагедии Шелли, вообще, всё молчит: любовь, разум, закаты над мрачным замком, далёкие звёзды, милосердие людей и бог.
И лишь на обезумевших, как лунатики на карнизе — устах изнасилованной Беатриче, похожей на несчастную Офелию, пленным мотыльком трепещут слова: боль и ад, которым нет адекватного выражения на человеческом языке, словно бог и ад, равно не могут сбыться в мире, и мучительно сплелись в единое целое.
Шелли, кроме того, ещё и удивительный психолог, не меньше чем Достоевский.
Он не только замыслил проследить удивительный процесс, как из кроткого ангела можно сделать демона, пусть и трагического прекрасного, но замыслил показать, что мучительная рефлексия души, может быть продолжением, фантомными болями внешнего насилия.
Шелли создаёт герметизм пространства души и микрокосма её трагедии: мы видим чудесные превращения, которые не снились и Кафке: свет — может быть расщеплён, распят до тьмы, и тьма — может сгуститься до света.
Читатель буквально кожей души ощущает эти «шёпоты и крики» света и тьмы (как сказал бы Бергман), которым нет исхода, им некуда жить.
В этом смысле просто поражает в трагедии некий пантеизм сострадания: брат Беатриче молится перед свечой, колеблемой у окна, о гибели отца, и душа его словно покидает тело и сливается с трепетом стихий: грозы и ночи; эта обнажённая душа ощущает душу убитого отца, стоящую перед богом… и видит, что эта душа Страдает, в ней ещё тлеет свет, и со стороны может показаться, что он молит о смерти света, себя, сестры, ибо все души перед господом — одно.
И вот такое чудо описал… атеист Шелли. Поразительно (правда, чтобы это увидеть в пьесе, нужна чуткость прочтения).
И обратный рефрен: изумительное место, где Ченчи, наедине с собой, молит, взывает к богу, которого.. искренне путает с дьяволом (впрочем, для кого добро и зло относительно, это закономерно).
Он просит бога о разврате и помощи в грехе, и.. боится себя же, словно ангел в нём, в смирительной рубашке крыльев, бредит и мечется в темноте.
Апокалиптика трагедии нарастает к концу, апогеем чего можно назвать сон Ченчи, сравнимый по размаху, с таинственным сном Раскольникова о трихинах, вселяющихся в людей.
Ченчи не просто замыслил изнасилование дочери. Ему этого мало.
Для него, тело дочери-ангела, это образ божьего храма, который он хочет осквернить, чтобы он зарос травой и ветром, но, главное, чтобы в сердце Беатриче — умер бог, чтобы она возненавидела бога в своих нечеловеческих страданиях.
Тело — храм бога, он разрушил, и душа Беатриче, словно бы стала бесприютна пред вечностью и обнажена до ада, бессмертия (запятую можно и убрать, она мигает как одинокий фонарь пустой ночной улочке).
Шелли чудесно выразил это:
Ченчи задумал настоящий апокалипсис (у него есть хорошие последователи, если оглянуться на некоторые современные страны, возомнившие себя Великими Инквизиторами и богами) — то, что полыхает у него в душе — должно охватить целый мир.
В некоторой мере, ад инцеста, это экзистенциальный акт суицида: желание разбить зеркало, последний блик «образа и подобия бога», отражённый в крови дочери.
У Достоевского, неискупимым грехом пред богом, является насилие над ребёнком: в нём чистота и образ самого бога.
Шелли в этом плане идёт дальше и сближается с Андреем Платоновым, у которого в пронзительном рассказе «Алтеркэ», есть жуткий символ сексуального насилия над ребёнком-Христом.
Для Шелли, тема насилия интересовала не меньше, чем для Достоевского и Платонова.
Один из самых пронзительных эпизодов в его творчестве в этом качестве, перекликающаяся с Ченчи, это его гениальная поэма «Лаон и Цитна», где прекрасную юную девушку насилует эдакий дьявол в образе человека, после чего на свет появляется трагический ребёнок: дитя тьмы и света.
Так куда же идёт Ченчи, в своём сне наяву? В ад, и чуточку дальше.
Он сладострастно мечтает, что Беатриче зачнёт от него ребёнка, эдакого Антихриста, и когда его, Ченчи, уже не будет, он всё же мрачно будет жить в ребёнке, мучая несчастную Беатриче своим подобием, когда ребёночек будет сосать молоко на груди матери а потом.. повзрослев, изнасилует мать.
Здесь уже апокалиптика де Сада, где мать — образ природы, чистой красоты, которая должна была спасти мир.
А кто спасёт красоту, Фёдор Михайлович?
Но в этом плане, и тёмное желание Беатриче убить отца — она хочет убить себя, но боится пред богом, — является неким фотографическим негативом суицида: в них общая кровь, а в Беа — вдвойне.
Внимательный и чуткий читатель подметит, что в трагедии, Шелли делает смутный намёк на то, что во время суда над Беатриче, она была.. беременна.
Можно ли любовью, на планете-ад, взрастить рай?
Беатриче бы смогла.
Беатриче и Шелли, предвосхитили известную мысль Сартра: ад — это другие.
Шелли показывает, что духовное насилие может быть не менее ужасным, чем физическое.
Чечни, инфернально измывается над Беатриче, говоря ей, что весть о её страшном грехе, уйдёт в народ, и в каждом окошке ночном, зажжённом, на каждой площади, она будет вновь и вновь насиловаться отцом и презираться: Шелли воссоздаёт пейзаж ада, как бы обставленный тысячью зеркал.
И, наконец, шедевр Шелли — пятый, заключительный акт, которым так восхищалась Мэри Шелли.
Сцена в суде, опять же сближающая трагедию с Карамазовыми. Только у Шелли она в несколько раз выше, и в ней апокалиптика Андрея Платонова.
Представьте себе земной суд над беременной… богоматерью (Шелли усложнил до предела экзистенциальный образ: не ясно, кем беременна Беатриче — богом, иди дьяволом: всё зависит от любви и прощения, всё как в жизни), глумление над нею, как над сыном её, только раны не телесные, а душевные, от слов.
Вот она заплакала и опускается на колени, обессиленная. У неё начались роды, но глумление и ад продолжаются, усиливаются и ребёнка тащат из неё — железными клещами, увеча его и как бы распиная.
Этого в трагедии нет, но как и в творчестве Платонова, Цветаевой и Набокова, есть как бы водяные и тайные знаки, прорывающий текст в 4-е измерение. Но для этого нужна особая чуткость к тексту. Творческий лунатизм.
Итак, вот тайный образ Шелли — распятая красота.
И всё же, Беатриче излучает свет у порога тьмы.
Тело разрушено и осквернено и в храме тела, словно бы заросшем травой и цветами, словно бы летают ласточки: дуга Беа, не сломлена.
В душе, перенёсшей такие нечеловеческие страдания и не утратившей бога, не ожесточившейся на мир, сокрыта быть может последняя тайна любви и спасения мира.

Это свободная статья, и я не собираюсь мучить читателя подробным и скучным разбором поэмы: оставим это бородатым академикам.
Я сосредоточусь на увлекательной истории написания поэмы, и коснусь самой поэмы так прозрачно и нежно, как мне хотелось бы коснуться любимой женщины в разлуке, в моём случае, вполне определённой женщины: смуглого ангела; вот, любимая как бы стоит у окна, мои руки, на её милых и тёплых плечах; каштановые волосы убираю левой рукой в сторону, и тихо целую в шею..
На её плечах — две тёмных бретельки, словно две ласковые, рифмующиеся строчки. Беру их пальцами и спускаю..
К её смуглым ногам, синхронно, падают моё сердце и ночная сорочка.
Эпипсихидион.. необычное слово, правда?
Похоже на стоп-слово в ролевых играх в сексе ̶у̶ ̶л̶о̶г̶о̶п̶е̶д̶о̶в̶ ̶ или в ссорах влюблённых, иной раз, на уровне чувств и боли, по крайней мере, дающих фору мрачным играм де Сада и Мазоха: если бы раны души на миг стали зримыми, как грозы, в сияющих провалах облаков, похожих на розовые следы от кнута на коже, мы бы со стыдом поняли, что ссора влюблённых — извращение, гораздо более противоестественное и тёмное, нежели.. (цензура).
Эта маленькая поэма Шелли, с таким неблагозвучным названием, является, быть может, самой нежной и мистической поэмой о любви, в которой женщина — богиня.
Нет.. не просто богиня, а — мессия, Та самая красота, которая по Достоевскому должна спасти мир.
Ну а пока, эта красота, в воплощении женщины, спасает мужчин и искусство, светя им путеводной звездой.
По сути, Шелли написал Евангелие чистой любви, в котором всё расставлено всё гармонично: женщина — богиня, мужчина — апостол Иоанн на своём острове Патмос, пишущий свой вечный Апокалипсис: т.е. о мире, где вечно-женственное будет поругано и низведено до минимума.
Вероятнее всего, Бодлер, в своём известном стихе — Приглашение к путешествию, вдохновлялся поэмой Шелли.
Если перевести её название с древнегреческого, то выйдет более чем нежно, фактически, это — душа души, луна - возле нашей души.
Почти.. сердце сердца.
А это уже надпись на могиле Шелли: cor cordium.
Хотя в могиле захоронен лишь прах Шелли.
Ирония судьбы в том, что сердце Шелли захоронено отдельно, в другой стране: с Мэри Шелли.
Когда Шелли утонул в бурю на море, его тело сожгли, но друг, бросился к нему и выхватил из огня, сердце Шелли.
Мэри хранила опалённое сердце любимого Перси у себя на ночном столике, а его кусочек носила на своей груди, беседуя с ним: быть может эти беседы поднимались до неземных высот, ещё не описанных в искусстве, когда Мэри, уже тяжело больная и прикованная к постели, гладила сердце Шелли на своей груди и говорила с ним, в ночи, говорила..
В идеале, конечно, и на могиле Мэри нужно было написать: соr cordium, а ещё лучше — Эпипсихидион.
По звучанию, похоже на тайного брата Эндимиона, с не менее романтической и печальной историей..
Поэма Шелли — закодирована шифром сна, как и поэмы Цветаевой (я бы её сравнил с «Попыткой комнаты»)
Основа поэмы — история одной платонической любви.. вышедшей из под контроля.
Есть ли такой термин — платоническая страсть? Не знаю. Цветаевой бы понравилось..
У неё был томик Перси Шелли, на страницах которого она делала чудесные пометки.
Мне так представляется рай книголюба: я читаю поэму Шелли на пляже в раю, рядом со мной лежит Марина Цветаева, и моё крыло над нами — похоже на лазоревый зонтик..
Если бы меня оставили на необитаемом острове, с доступом к библиотекам всего мира, я бы смог доказать, что душа Марины, жила в прошлом, в телах Перси и Мэри Шелли.
Летом 1820 г, Перси и Мэри переехали в Пизу.
Так посоветовал врач Перси: у него были расстроены.. разорваны нервы, головные боли были ужасающие (не помогал даже опиум), и бок болел так сильно, что он катался по полу и кричал от боли.
А по ночам.. к ужасу Мэри, он голым ходил по крышам и читал луне стихи, со слезами на глазах: Шелли был лунатиком.
Незадолго до этого, у Перси и Мэри, умер сын, что наложило свой отпечаток на их отношения.
Нет, нежность и любовь остались, но сердца словно бы заосенились.
Нужна была смена обстановки, покой, солнце и море.
Сохранилось едва ли не единственное письмо Мэри к Шелли, этой поры, отмеченное мрачным пророчеством:
Однажды вечером, на вилле в Пизе, местный профессор рассказал Мэри и Перси историю юной итальянки (позже Мэри напишет о ней рассказ: The bride of moderr itali).
Рассказ слегка поддатого профессора походил на пушкинскую сказку: отец был женат вторым браком на молодой и взбалмошной девушке.
У него было две очаровательных дочери, которых молодая жена упрятала в мрачный монастырь: уж очень они были красивы, особенно старшая — Тереза.
Вскоре, мачеха прибрала и наследство сестёр.
Перси, Мэри, и её сводная сестрёнка Клер Клермонт, с воодушевлением откликнулись на трагедию двух сестёр.
Сначала сестры посещали итальянских сестрёнок в монастыре.
О своих посещениях и муках сестёр, и о красоте Терезы, они увлечённо рассказывали Перси.
Вскоре подключился Перси.. и началось.
Между монастырём и виллой Шелли, завязалась оживлённая переписка: письма летали в ночи, словно мотыльки-лунатики. Много писем.
Могло показаться — это Перси Шелли совращает монашек, всех, словно лермонтовский Демон.
Ах, какие это были нежные письма!
Чета Шелли, сразу же дала Терезе прозвище — Эмилия (под этим именем она и появится в поэме).
Это отсылка к малоизвестной поэме Боккаччо, нашедшей отражение в первом рассказе о рыцаре, в Кентерберийских рассказах Чосера, о двух друзьях, заключённых в тюрьме: однажды утром они увидели в окошке, сидящую на травке Эмилию, дочку начальника Тюрьмы, и влюбились.
Далее следует привычная для любви на земле — трагедия, состоящая из смешения крови, слёз и вина, в разных пропорциях, и катарсис в конце.. который нужен быть может лишь ангелам-эстетам, но не изувеченным человеческим сердцам.
Эмилия обращалась к Мэри так: моя обожаемая сестрёнка!
К Перси: мой обожаемый Перси!!
Мэри насторожилась.. она только-только начала справляться с ревностью к своей сводной сестрёнке Клер Клермонт, чем-то напоминавшего смуглого ангела: Шелли любил с ней по вечерам сидеть на крыше и говорить о жизни на далёких звёздах, о поэзии..
Мэри знала экзальтированную натуру Перси, знала, что он мог воспылать платонической любовью, совершенно невинной, к чудесному стиху Данте, к прекрасному дереву или морю (разлучница голубоглазая!), к мужчине и к женщине.
Но ревновать к стиху или к дереву, много проще, чем к очаровательной юной девушке, правда?
К тому же.. Мэри знала ещё одну страсть Перси: он был рыцарем. Необычным: нежной помесью эльфа и Дон Кихота.
Однажды он спас свою первую жену — Гарриет (ей было 16 лет), похитив её из мрачного замка с драконом (с отцом-тираном).
И как рыцарь.. точнее, эльф, из сострадания женился
Через пару лет, Перси также похитил Мэри (те же 16 лет) из её дома с тиранической мачехой (милая Клер Клермонт, увязалась с влюблёнными: позже её ждали удивительные приключения в России.. а ещё позже, эта нежная инфернальница и атеистка, приняла монашество. На её могиле тоже можно было бы написать это таинственное заклинание — Эпипсихидион, которое идеально подходит для влюблённых с разбитым сердцем: Клер, до конца своих дней пронесла любовь к Шелли и пожелала, чтобы её похоронили с платком Перси на своей груди).
Мэри насторожилась: вопрос времени, когда Перси взбредёт в голову романтически вызволить принцессу из темницы.
Терезе было 19 лет (перевёрнутые 16!).
Шелли был очень начитанным.
В поэме Боккаччо, друзья (или братья? не помню уже), влюблённые в Эмилию, подсыпали в еду охраннику — опиум.
Шелли, с энтузиазмом ребёнка, стал готовить вместе с Мэри, Клер и Эмилией (Терезой), чудесный план, с ещё более чудесным пирогом.. с опиумом, для монашки-наставницы: после такого лакомства, ей мог явиться сам архангел, и провести сквозь просиявшую стену, несчастную Эмилию.
Хочется верить, что сам Шелли, в этот миг был бы не под опиумом, иначе бы монастырь был полон порхающих ангелов, похожих на пленных мотыльков.. в сорочках, и Шелли мог бы освободить вовсе не Эмилию: перелезая через забор, и держа в объятиях очаровательную принцессу, он бы заметил у своей груди… седую монашку, ласково его обнимающую за шею: крик Шелли. Вспорхнувшие с ветвей в небеса — вороны.
И где-то из далёкой кельи, робкий крик Эмилии: Шелли! А как же я?!
Позже, похожий план Перси вынашивал, когда хотел похитить из монастыря пятилетнюю дочку Клер Клермонт (от Байрона) — Аллегру, но Шелли и Клер опоздали и она умерла.
Эмилия была тайно влюблена в одного юношу.
Символично, что такое же имя — Антонио, было и у святого, которому она молилась.
В своих Дон-кихотских грёзах, Шелли мечтал в духе идеалов тройственной любви Серебряного века (Андрей Белый, Зинаида Гиппиус, Саша Блок; разумеется, я говорю не об их союзе — Зинаида бы нежно вскрикнула от одной мысли об этом; Белый бы лукаво улыбнулся), о том, как он, Мэри, Эмилия и юноша с именем святого, будут жить все вместе и любить друг друга.. пока ангелы не заподозрят что-то неладное.
Шелли часами пропадал в монастыре (что было довольно странно для атеиста. И если бы не Эмилия.. можно было заподозрить Шелли в том, что он тайно уверовал в бога: на самом деле, Шелли был пантеистом, и его вера во многом перекликается с верой Цветаевой и даже с верой Андрея Платонова), где юная итальянка изливала ему свою душу, на своём быстром, журчащем итальянском, при этом кормя пленную птичку в клетку и сравнивая своё сердце с ней.
Ревность Мэри росла..
Эпипсихидион, единственная поэма Перси, не переписанная Мэри от руки.
Почему? Больно ли это было Мэри переписывать?
Шелли ещё не завершил поэму, когда узнал, что божественная Эмилия.. вышла замуж за какого-то старого и богатого графа (отец приискал жениха), и уехала за ним куда-то «в глушь, в Саратов».
Мэри с удовольствием смаковала это в письмах к подругам.
А Шелли.. был в отчаянии.
Он вознёс Эмилию на небеса, он сделал из неё новую Беатриче.. и небеса низверглись, завалив всех.
Шелли стыдился потом своей поэмы..
Шелли ошибался. По двум причинам: 1) Поэма гениальна. Смешно было бы, если бы Пушкин стыдился стиха «Я помню чудное мгновенье», посвящённого Керн. Разве нам, через века, важно, кем была Керн?
На этой безумной земле, и мужчина и женщина, и веточка сирени и пыльная былинка, в свой звёздный час, могут стать проводником божественного. Другое дело, пойдёт ли они всей своей судьбой за этим голосом неба в груди.
Я не знаю, почему Перси и Мэри этого не поняли: порой воспевая сирень, звёзды, цветы, мы смутно понимаем, что они на миг словно бы стали Луной, отразившей божественный лик нашей возлюбленный, и возлюбленной не приходит в голову ревновать к сирени или к звёздам, верно? Так чем отличается красота женщины от красоты звёзд и цветов, даже если это другая женщина, волею судьбы ставшая Той самой луной?
Я бы так не смог. Но это я. Но Шелли..
Во вторых, мы толком не знаем, что побудило Эмилию к этому выбору.
Это могло быть единственным средством к свободе.
Она могла поссориться со своим юным возлюбленным и.. броситься, как Каренина под поезд (монастырь святой Анны!), в чуждый ей брак с нелюбимым.
Кроме того, быть может всё гораздо проще — почему бы и нет? — и Эмилия была.. обыкновенным ангелом, который, как и полагается ангелу, пропал, вдохновив Шелли на свой шедевр.
Я серьёзно. Мы же не знаем как выглядят ангелы, и ещё меньше знаем об их полётах в разных измерениях.
Возможно, перелётный, смуглый ангел присел отдохнуть, как птица на веточку, на загрустившую судьбу Эмилии именно в тот момент её жизни в монастыре?
Итак, о чём же поэма?
Она много выше той истории, на которую опирается.
Это даже забавно: атеист Шелли, написал одну из самых божественных поэм о любви, поэму о чистой любви и небесах любви, которые.. порой важнее небес рая.
И в этом плане, Шелли словно бы предвосхитил мысль Цветаевой о том, что есть души, которым может быть равно тесно и на земле и в раю, в человеческой любви, перед которой все так преклоняются почему-то.
Цветаева однажды записала в дневнике, что у небес — есть свои, тайные небеса, но дерзнуть на них могут немногие: демонизм любви: упасть в небеса, а не с небес.
Поэма Шелли — как попытка сердца, припомнить вечность, и даже чуть больше, когда душа в нас не была скована, словно смирительной рубашкой — плотью и полом, и мы могли невинно, крылато и светло любить и звезду и цветок и женщину и мужчину и друга и стихи..
По мысли Шелли, наша плоть, пол, брак — всё тот же «мрачный монастырь», в котором томится наша душа.
Да, порой она там чудесно поёт и видит гениальные сны.. но всё же, душа там уродуется, как цветок, долгое время прижатый к синеве стекла.
Бальмонт чудесно перевёл поэму Шелли, и всё же.. её лучше читать на английском, ещё и потому, что она в некоторых местах, словно бы теряет гравитацию слов (даже в оригинале), и образы в ней переходят в стадию какого-то ультрафиолета, в сирень стратосферы.
Т.е. Шелли как бы желает показать, что для выражения любви в её высшем смысле, равно скупы, нелепы и преступны — и тело и пол, а если точнее — человечность, с её оковами морали: мораль полезна лишь для зверя в нас, но если мы в любви преображаемся в чистую любовь, то мораль, пол, тело, человечность — равно увечат ангела в нас и безмерную любовь, в этом «мире мер».
И чем на большую любовь отважится человек, тем с большей высоты он рухнет, вместе с музой-икаром: в этом и сокрыта тайна демонизма (это демонизм Врубеля, Платонова, Цветаевой, Шелли), который не имеет ничего общего с привычным для многих демонизмом, ставшего пародией на самого себя.
В первозданном демонизме, греческом ещё (Даймон, что можно перевести как божественный дух или ангел хранитель; этимологически он близок к слову — гений, и «делить», что важно в смысле космогонии поэмы Шелли: в ней красота мира, которую душа желает любить и обнять единой любовью — друг, любимая, подруга, звёзды, стихи… как бы распяты, как луч, преломлённый о волну), и пол и телесность вообще, «человеческое», в свой звёздный час, в предельном напряжении нежности, могут небесно просиять, перед тем как стать сплошной душой, и этим могут отпугнуть.. любимую человека и не только.
Боже мой.. я всю свою жизнь нежно спорил с этим стихом Ходасевича:
Не верю в красоту земную
И здешней правды не хочу.
И ту, которую целую,
Простому счастью не учу.
По нежной плоти человечьей
Мой нож проводит алый жгут:
Пусть мной целованные плечи
Опять крылами прорастут!
Я искренне думал, надеялся до последнего, что Горький прав, и человек — звучит гордо.
Нет.. это звучит странно и грустно. И человек и человечность.
Они по своему прекрасны, как и поэзия, пол. Но неполноценны. Этот стих Ходасевича, словно нежный пробник поэмы Шелли.
По сути, это земная игра слов: пол, человечность, мораль, любовь, бог, человек.
Всё это неполноценно в земном искривлённом пространстве разума и жизни.
Мы не знаем, как это будет сиять в ином месте, но тут, на земле — это… всегда грустно и неполноценно, и Шелли словно зовёт нас туда, где не будет этой грустной неполноценности, перед которой почему-то многие жаждут преклониться, по сути, взяв себе за идеал — ущербность.
Может поэтому век от века на земле повторяется одно и тоже безумие и на уровне политики и религии и любви?
Но ещё лучше, читать поэму на итальянском (Шелли сам перевёл её на язык Данте, как и некоторые свои поэмы и стихи: для Эмилии..).
Слава богу, я прекрасно читаю на итальянском. Ни черта не понимаю, но читаю чудесно, да (не дай бог итальянцу услышать! — довольно редкий, волжский диалект итальянского).
Шелли по своему переработал в поэме стиль Данте — его любовная лирика - и флорентийцев 14 века, с их стилем «Dolce stil nuovo», который во многом опирался на мистицизм святого Франциска Ассизского (прогуливаясь вдали от монастыря, он ласково обращался к природе: брат мой волк — здравствуй! Сестрёнка речка — привет! Жена моя — травка, люблю тебя!
Ладно, про травку я выдумал. Но так ведь могло быть на самом деле, и никто не называл его развратником: это естественное желание души — обнять любовью всю милую природу, всё человечество, всех милых друзей).
Для этого сладостного стиля, было характерным обожествление женщины, и беспредельное одухотворение любви.
Заметьте, не грубое и тоталитарное глумление над плотью ранимой и нежной, и горделивое отмежевание от неё, но одухотворение самого просиявшего вещества мира, как по весне цветёт, невестится - материя.
Шелли не случайно в поэме приводит этот почти евангельский образ Невесты, когда в чистой любви — сама плоть и мир, становятся душой и цветут.
Разве плоть грязна? Пошла? Оставим эти мнения пошлякам. Плоть, как раненый бескрылый ангел, нуждается в заботе и нежности, не меньше души.
Как писал Шелли в письме: для чистых — чисто всё..
Не случайно, для гения, ребёнка, влюблённого, и пыльная былинка может быть божественной, тогда как другие, гордецы, пройдут мимо неё, наступив на неё, в свои «музеи».
Ницше говорил, что в подлинной любви, душа — обнимает тело.
Для Шелли, в подлинном чувстве — любовь обнимает жизнь: выравнивается температура между словами, делами, жизнью и любовью.
В этом смысле особенно зачаровывает небесная синестезия некоторых строк Шелли, например, где гг, зовя возлюбленную вдаль от Земли, на таинственную звезду Люцифера, звезду-Эдем (как помним, Люцифер, до грехопадения, был ярчайшей и любимой звездой на небе у бога, фактически — той самой Венерой и звездой путеводной).
Т.е. в блаженной звёздной обители, нежно растушёваны границы меж телом и душой, полом и красотой природы: соприкосновение влюблённых в сексе, могут быть не менее нежным и невинным, чем касание ребёнка — мотылька, или касание монашки — ночного цветка.
Но вместе с тем, нежность природы, окружающая влюблённых, берёт на себя как бы функции ангела (Даймон) и.. пола.
Фактически, мы видим сексуальность красоты природы, секс ангелов.
Неужели атеист Шелли, решил вечную тайну и муку пола?
Пол был крыльями в Эдеме, весной Эдема..
Поэма Шелли, удивительным образом, как лунатик на карнизе, балансирует на грани ярчайшей сексуальности и почти бесплотной, неземной любви.
Поэма не случайно начинается с дивного образа: поэт преподносит Эмилии поэму.. овидиево, райски преобразившуюся у её милых ног, став цветами и розами без шипов.
Келья девушки, словно бы светло зацвела розами..
Это в 1000 раз нежнее Лермонтовского явления Демона — Тамаре (такое лишь снилось Тамаре).
И здесь есть любопытный нюанс.
У Шелли есть стих, посвящённый Эмилии Вивиани: она посылает Шелли цветы… но они влажные, и Шелли мучается сомнением: это слёзы или утренняя роса?
Поэма Шелли вообще построена на мистицизме отражений: Шелли рвётся спасти Эмилию из заточения, но и Эмилия, как и полагается женщине, спасает мужчину, подобно Эвридике, сходя в склеп его жизни.
Шелли дивно преображает миф об Орфее и Эвридике, сливая их в одно целое: что мир мужчины без любимой? — Склеп и ад.
Кто к кому должен сходить? Вопрос в космогонии Шелли, не менее нелепый, чем дилемма: бытие определяет сознание, или наоборот.
Оба, как лунатики в психиатрической клинике.. ночью посещают друг друга..
Для Шелли, жизнь человека без любимого, так же неполноценна, ущербна и изувечена, как и для Платонова — жизнь человека без истины: стыдно жить без истины..
И пускай толпа повторяет с чужих слов, что можно хорошо и счастливо жить и без любимого человека, и без истины, и без бога..
Но что это за жизнь? Путь к саморазрушению и любви к себе.
Кстати, вас никогда чуточку не коробило от этих слов? Понятно, можно любить себя в хорошем смысле, и в плохом.
Но любовь не игра, даже в словах с ней играть нельзя, а мы привыкли. Неужели нельзя чем-то иным заменить термин «люби к себя»?
На семантическом уровне, за которым часто слепо идёт душа, это путь к катастрофе и эгоизму, к всё тому же примоднённому лозунгу сегодняшних дней: люби себя! Прежде всего — себя!
Для Шелли, любовь — не менее таинственна чем смерть или полёт к далёкой звезде, населённой удивительной жизнью.
Поэтому он и зовёт Эмилию.. к далёкой звезде.
По сути, Шелли в поэме, чуточку умирает в любви, раздевается — до бессмертной души, и обращается уже не столько к Эмилии из плоти, а к её вечной душе.
Удивительно, что атеист Шелли (ладно, хватит уже его называть атеистом, хотя он сам так любил смущать людей, особенно, когда путешествуя с Мэри по гостиницам, он так подписывался: тогда это было всё равно, что объявить себя демоном. Шелли - пантеист), по своим голубоглазым закоулочкам сердца, снова и снова набредает (как и Платонов) на христианские тропинки, заросшие травкой, но становящиеся от этого словно бы ещё более.. близкими богу.
Я к тому, что только так и можно любить на земле: умереть, как зерно, для себя, для своих страхов, эгоизмов, сомнений, обид, и родиться заново — для любимой, живя ею, даже больше, чем собой.
В Пизе, чета Шелли познакомилась с супругами Уильямс: очаровательной Джейн, смуглой, как ангел (она родилась в Индии. Но была англичанкой. Она любила плавать с Шелли на лодке. Он ложился на её милые колени головой, закрывал глаза, от боли, и она ему пела индийские песни, гладила голову.. и боль проходила: у Шелли много стихов о ней).
Шелли нежно влюбился в обоих..
Но Джейн, этот смуглый ангел из Индии.. стала последней и самой яркой платонической страстью последних лет жизни Шелли. Быть может, поэма Шелли, во многом относится именно к ней.. а не к Эмилии.
Однажды, Шелли отплыл с Джейн в море на своей маленькой лодке.
Бросил вёсла в небо воды, словно уставшие крылья, долго смотрел в тёмную глубину и прошептал, как бы голосом обернувшись на Джейн: давай отправимся — Туда. Откроем все тайны. Лишь ты и я..
Джейн испугалась. На берегу играли её дети: мальчик и девочка.
Она улыбнулась и промолвила, желая отвлечь Шелли и не выдать свой страх: Перси, милый.. давай вернёмся? Смотри, уже вечереет. Мэри наверно приготовила чудесный ужин..
Шелли не просто так называют «нереальным ангелом, бьющим своими крыльями в сияющей пустоте».
К нему глупо применять земные законы, и ревность Мэри была необоснованной.
Шелли хотел обнять своей душой весь мир, друзей, природу и милых зверей.. но ему мешало это сделать его тело.
Не случайно он в конце жизни носил на груди.. кулончик с ядом.
По своему символично и забавно: он носил на груди — яд, а Мэри, после его смерти: кусочек его опалённого сердца.
Шелли выстраивает в поэме — космогонию любви,разумеется, закодированную.
Он — земля. Эмилия — таинственная, почти ларс-фон-триеровская луна, меланхолично приблизившаяся к Земле.
Мэри — солнце (с мужской точки зрения мне интересно: кем бы хотела быть женщина? Луной, или солнцем, для любимого? Солнце светит ярче.. но оно дальше луны).
Боже.. Шелли даже нашёл в своём ласковом Эдеме космоса, место для Клер Клермонт (сестрёнка Мэри): она — комета. Фактически, сама себе луна и одинокая Лилит.
Нет, эти светила не вращаются ни вокруг солнца, ни вокруг земли: это только в нашем мире у планет такие безумные и нелепые траектории, определяющие зачем-то, трагедии любви и дружбы (забавно, что многие даже не задумываются о том, что орбита планет — не линейна и зависит от движения солнца, несущегося как и они, в космическом пространстве с сердцекружительной скоростью: орбита планет похожа на спираль цветения лепестков розы.
Так же построена и поэма Шелли.
Когда Шелли обращается к Эмилии, в неком экстазе развоплощения: сестра, супруга. ангел!
Он словно бы за один миг, переживает века блужданий души по земле в поисках любимой, собирая её отсветы, как цветы.
Поэт в этих словах как бы расправляет тысячелетние крылья, одновременно растушёвывая и свою телесность, и..словно бы нежно раздевая Мэри, Эмилию, Клер, снимая с них покровы их земной жизни, обнажая их — до бессмертной души: разве не о такой интимности мечтает женщина?
Поэма прекрасно читается и без расшифровки, но с ней — она более глубока и трагична.
Например, в конце поэмы, Шелли упоминает «планету того часа», когда «Земля была потрясена бурей».
Обычный читатель, уловит в этом смутную поэзию, и всё, но на самом деле в этих строчках сокрыта трагедия, это тот же фон-триеровский образ апокалипсиса: это зашифрованный образ самоубийства первой жены Шелли — Гарриет, с которой он когда-то убежал из её дома… на лодке.
Она бросилась в реку, будучи беременной (не от Шелли), и для Шелли это стало потрясением, во многом, головные боли были связаны с этой трагедией.
И с Мэри, Перси на маленькой яхте совершил побег.
И Эмилию.. звал улететь к далёкой звезде, тоже, на яхте.
Интересно, догадывался ли Шелли, что Эмилия в поэме, это уже давно не та итальянка из плоти и крови в монастыре, а вечно-женственная красота, как в тюрьме, заключённая в нашем мире, в нашей земной любви: её искры, нежно сокрыты-развеяны в душе Мэри, Эмилии, Клер и.. Перси.
Символично, что вместе с Шелли на той самой яхте «Ариэль», на которой он погиб в бурю, был супруг Джейн (Эдвард) и… совсем ещё юный матрос, Вивиан (19 лет!), в фамилии которого так странно отразилась фамилия Эмилии Вивиани: Шелли отправился к звёздам, на яхте.. как и хотел.
Кто был этот таинственный матрос? Быть может.. ангел?
В самом конце поэмы, есть странный образ: Шелли словно бы умирает, становясь.. стихами, и эти стихи, словно бесприютные, неземные птицы, разлетаются по миру, встречая на своём пути — ангелов: Марина, Ванна, Прима.
Это закодированные имена Мэри Шелли, Джейн и Эдварда.
Космос Шелли, словно зрачок влюблённого ангела — ночью, расширяется ещё больше: Шелли уже нет в мире, но его душа — в друзьях, в стихах: образ чудесно закругляется: в начале поэмы, как помним, поэт присылает Эмилии — стихи, словно цветы.
Шелли как-то писал другу, что хотел бы, чтобы эту поэму давали читать только посвящённым — другие не поймут.
Только лунатики жизни и любви, поймут.
Я хотел бы.. дать прочитать эту поэму, московскому смуглому ангелу. Самой прекрасной женщине на земле.
Она поймёт..
В одном своём романе, мистическом, Набоков писал о том, что души не умирают после смерти человека, а продолжают жить в свете природы, в электричестве: вон тот фонарь в Москве, с чудесными бабочками, может быть Александром Блоком: под ним любят назначать свидания; а вот эта настольная лампа — продолжает Набоков, и моя забывчивая память — изливает свет на мой столик с письмом для любимой, и в этом свете — Шелли..
Смуглый ангел, пусть эта поэма Шелли, на твоём ночном столике, будет как настольная лампа, освещать твои нежные сны: в этой поэме - моё сердце, бесконечно любящее тебя и думающее о тебе и во сне и наяву, и даже когда меня не станет, я всё равно буду думать о тебе, пусть и красотой строчек Шелли, или своих стихов.
Просто бери томик Шелли с собой в постель, и иногда с улыбкой думай обо мне.
Статья, как и жизнь моя, снова плавно переходит в письмо к тебе..
И я не знаю, читаешь ли ты меня или нет. Мне становится легче, когда я пишу тебе, мой Эпипсихидион..
Эдвард Уильямс, с которым Шелли погиб в море.
Первая жена Шелли - Гарриет Уэстбрук
Клер Клермонт.
Это единственный портрет Клер, и.. к сожалению, не достоверный.
Его написала ирландская художница Amelia Curran, нежный друг Шелли: не самое лучшее решение, позировать той, кто тебя ревнует и тайно влюблён в того же в кого и ты.
Художница накинула на Клер несколько лишних кг.
Портрет Шелли работы Amelia Curran
Художница, после гибели Шелли, примет монашество.
Монумент, изображающий умершего Шелли на руках у Мэри.
Любопытно, что он сделан на мотив "Пьеты" Микеланджело.
Я не смог найти иллюстраций к Эпипсихидиону, поэтому решил вставит иллюстрацию к чудесной поэме Шелли - Мимоза (The sensitive plant).
Она почти не известна в России, к сожалению. Но на неё есть огромное количество прекрасных иллюстраций: Charles Robinson и Laurence Housman.

Глубоко, так глубоко, что совершейнейшая бездна.
Автор в декорациях любви между двумя молодыми людьми и восстания рабов рассказывает всю историю мира.
Во вступлении Шелии указывает, что создание поэмы навеяно Французской революцией и её последствиями, наполеоновскими войнами и реставрацией Бурбонов.
Но я в этом контексте поэму не воспринимала. Во время чтения у меня возникали ассоциации войн, восстаний и борьбы за права угнетенных вообще, без привязки к каким-либо историческим событиям.
Шелли начинает поэму с эпизода борьбы орла со змеем. Что само по себе в культуре и литературе достаточно прочная аллегория борьбы добра со злом. Однако, когда орёл одерживает победу и змей брошен в пучину вод, героя Шелли охватывает невыразимая тоска. И далее он объясняет причину этого чувства.
Во-первых, змей добирается до берега и продолжит свою жизнь, а соответственно деяния, на земле, среди людей. Конечно будет отравлять их сердца. Во-вторых, Цитна как олицетворение любви проявит к поверженному змею милосердие и пригреет его на своей груди. Трагедия ситуации в том, что истиная любовь не может поступить иначе. Истиная любовь есть прощение и принятие. Однако способно ли милосердие изменить зло в самой его сущности не уподобляясь ему в методах борьбы?
Второй раз с этот вопрос возникает в поэме в картине самого восстания рабов. Когда Лаон пытаясь остановить кровопролитие революции говорит о том, что ненависть к врагам, даже казалось бы праведная, не приближает счастье, а лишь умножает горести. И поступает с Тираном так же, как Цитна со змеем. Лаон запрещает лишать того жизни и отпускает. И естественно Тиран подкопив силы и подсобрав союзников возвращается.
Кроме того, образ Цитны, особенно с мечом на коне, вставал у меня ассоциацией с Жанной д'Арк. Светлая, практически святая, хрупкая и женственная, но невероятной душевной силы. Вдохновляющая свой народ.
Словами Цитны Шелли в поэме много говорит об униженом положении женщин. О том, что через бесправие женщины мужчина равняет себя с Тираном, против которого борется. А значит истиная свобода достижима только в условиях общего равенства.
Мне понравилось, как Шелли показывает силу и живучесть идей и убеждений. Однажды зародившись в уме они остаются с человеком навсегда. Даже если он удаляется от социума в отшельники, даже если он боится, стыдится или по каким другим причинам не способен их выразить вслух. И как достаточно одного лишь человека, оформившего идею в слово, жаждущего эту идею воплотить, кричащего о ней, чтобы мигом вспыхнули тысячи молчащих, встали, взяли в руки оружие и... Начали за свою идею умирать и убивать.
При этом смотрите, что характерно, такой силой и живучестью ведь обладают не только идеи свободы, равенства и братства. Так же легко вспыхивают идеи например рассового или религиозного превосходства.
О религиозном превосходствое, но скорее, о религии как опиуме для народа, Шелли тоже пишет в своей поэме.
Шелли был атеистом, однако, как мне мнится, атеизм вот такой, социалистический-революционный, был скорее связан не с отрицанием существования бога, а с борьбой с его наместниками на земле. С людьми, проповедующими в вере покорность тирании, смирение в рабстве, терпение в муках пред лицем не бога, нет. Пред лицем не Господа, а господина.
Люди, измученные голодом, жаждой, болезнями обращаются каждый к своим богам за утешением, поддержкой, милосердием. За тем, что в принципе и должна содержать в себе религия, - за любовью. В ответ на мольбы же получают обвинения, злорадство: "вот чего вы добились своей революцией, своим желанием свободы, восстали против воли божьей"...
Служителями культа назначены виновные в бедах народа - Лаон и Цитна. И Лаон в образе истинного праведника является пред Тираном и народом, выдаёт Цитну, потому как верит обещанию Тирана отпустить её, ибо любовь верит в праведность и бесконечно даёт лжи шансы на исправление.
Лаон и Цитна восходят на костёр и после смерти наконец обретают то, о чем мечтали и к чему стремились - покой, всепоглащающую любовь и свободу.
Но искупительная ли их жертва для народа? Один республиканц убивает себя сразу же после того, как влюбленные были сожжены. Зачем он сделал это? Не вынес вины причастности к казни, осознал её преступность или же понял, что идеи равенства каждого с каждым, свободы и любви не достижимы в этом мире, а достижимы только в том?
Зачем же орёл сбросил змея, а не убил его? Не мог уподобиться злу, верил в возможность змея стать орлом? Или добро не может существовать без зла? Не потому что друг друга уравновешивают, а потому, что без несчастия не познать всю полноту счастья, без боли не понять всю ценность здоровья, без существования угнетенных и обездоленных не вызвать в одухотворяющего желания оказать помощь.

In many mortal forms I rashly sought
The shadow of that idol of my thought.
And some were fair--but beauty dies away:
Others were wise--but honeyed words betray:
And One was true--oh! why not true to me?

And from the breezes whether low or loud,
And from the rain of every passing cloud,
And from the singing of the summer-birds,
And from all sounds, all silence. In the words
Of antique verse and high romance,--in form,
Sound, colour--in whatever checks that Storm
Which with the shattered present chokes the past;
And in that best philosophy, whose taste
Makes this cold common hell, our life, a doom
As glorious as a fiery martyrdom;
Her Spirit was the harmony of truth.

Mind from its object differs most in this:
Evil from good; misery from happiness;
The baser from the nobler; the impure
And frail, from what is clear and must endure.
If you divide suffering and dross, you may
Diminish till it is consumed away;
If you divide pleasure and love and thought,
Each part exceeds the whole; and we know not
How much, while any yet remains unshared,
Of pleasure may be gained, of sorrow spared:
![Обложка подборки Morrison Hotel Library [bonus-track! см. конец]](https://i.livelib.ru/selepic/014899/l/a170/Morrison_Hotel_Library_bonustrack_sm._konets.jpg)









Другие издания
