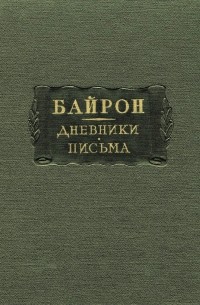Литературные памятники

- 765 книг
Это бета-версия LiveLib. Сейчас доступна часть функций, остальные из основной версии будут добавляться постепенно.
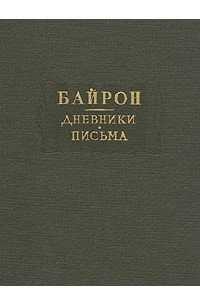
 Ваша оценка
Ваша оценкаЖанры
 Ваша оценка
Ваша оценка
Признаться, "Чайлд-Гарольда" в своё время я не осилил. Ничего, ещё непременно к нему вернусь, а пока прочитал вот эпистолярное наследие Байрона.
Расклад на начало второго десятилетия XIX века, в общем, такой. На юного наследника титула внезапно свалилась общественная и литературная известность. И он стоит такой с мрачным челом, думает про себя "да провалитесь вы все пропадом", язвит направо и налево, поносит поэтов озёрной школы, ну и по каждому поводу не преминет высказать своё мнение. Следит за здоровьем, но в кругу собеседников может выпить три бутылки кларета за вечер. Пишет стихи, но не менее проворно их сжигает. Влюбляется быстро, часто и сильно. И, конечно, рефлексирует, хандрит и мечется.
Конечно, всем известно, что Байрон, в общем-то, был мрачноват, но я и не подозревал, насколько это так. К себе он относился жёстко и не думал о себе ничего выдающегося. Полагал, что сочинительство подходит только тем, кто ни на что другое не годен. Интересно, что, следуя этому кредо примерно половину своего творческого периода, далее он ввязывается в заварушку итальянских карбонариев, а потом и вовсе бросается в огонь греческого восстания, переходя от слова к делу вполне буквально. Интересно, не простудись он в Греции и проживи вдвое дольше, сколько всего наворотил бы? Впрочем, в дневниках Байрон жалуется на своё самочувствие довольно регулярно, а иногда и вовсе высказывается в духе "смерть не за горами", так что его кончина всё же не выглядит как гром с неба.
Эпистолярка как жанр, конечно, не для всех, но зачастую она весьма интересна, а также всегда несёт с собой дух эпохи, в которую довелось жить автору. Даже если не любите/не читали Байрона, ознакомьтесь, как минимум, с частью его дневников под названием "Разрозненные мысли". Там больше всего курьёзных историй и меньше игры слов.
А я пойду читать эпистолярное наследие Саути, посмотрю, можно ли составить баттл из его и Байрона высказываний друг о друге.

51
Удивительно, как скоро мы забываем то, что не находится постоянно у нас перед глазами. После года разлуки образ тускнеет, после десяти — изглаживается. Без усилия памяти мы уже ничего не можем представить себе ясно; правда, тогда свет на миг загорается вновь, но быть может это Воображение подносит свой факел? Пусть кто-нибудь попытается через десять лет вызвать в памяти черты, склад ума, поговорки и привычки своего лучшего друга или любимого героя (т. е. величайшего человека — своего Бонапарта или кого-нибудь еще), и он будет поражен неясностью своих воспоминаний. Я берусь это утверждать, а я всегда считался одаренным хорошей, даже отличной памятью. Исключение составляют наши воспоминания о женщинах; их позабыть нельзя (чёрт бы их побрал!), как нельзя позабыть другие знаменательные события, вроде «революции», или «чумы», или «вторжения», или «кометы», или «войны», т. е. памятных дат Человечества, которому ниспосылается столько благословений, что оно даже не включает их в календарь, как слишком обыденные. Среди календарных дат вы найдете «Великую засуху», «Год, когда замерзла Темза», «Начало Семилетней войны», «Начало А[нглийской] или Ф[ранцузской] или И[спанской] революции», «Землетрясение в Лиссабоне», «Землетрясения в Лиме», «Землетрясения в Калабрии», «Лондонскую чуму», «Константинопольскую чуму», «Моровую язву», «Желтую лихорадку в Филадельфии» и т. д., и т. п., но вы не найдете «обильного урожая», или «роскошного лета», или «длительного мира», или «выгодного соглашения», или «благополучного плавания». Кстати, была война Тридцатилетняя и Семидесятилетняя — а был ли когда-нибудь Семидесятилетний или Тридцатилетний мир? Да был ли когда-нибудь хоть однодневный всеобщий мир, кроме как в Китае, где секрет жалкого счастья и мира нашли в неподвижности и застое? Каковы же причины этого, — жестокость или скупость Природы в отношении нас? Или неблагодарность Человечества? Это пусть решают философы. Я к ним не принадлежу.

Итак, за последние девять лет меня или мою поэзию сравнивали — на английском, французском, немецком (тут мне требовался переводчик), итальянском и португальском языках — с Руссо — Гете — Юнгом — Аретино — Тимоном Афинским —«алебастровым сосудом, светящимся изнутри» — Сатаной — Шекспиром — Бонапартом — Тиберием — Эсхилом — Софоклом — Эврипидом — Арлекином — Клоуном — Стернгольдом и Гопкинсом — «Комнатой Ужасов»— Генрихом VIII — Шенье — Мирабо — Р. Далласом-младшим (школьником) — Микельанджело — Рафаэлем — петиметром (Щеголем) —Диогеном—Чайльд Гарольдом — Ларой — графом из «Беппо»— Мильтоном — Попом — Драйденом — Бернсом — Сэведжем — Чаттертоном — шекспировским Бироном («Я много слышала о вас, Бирон») — поэтом Черчиллем — актером Кином — Альфьери и т. д., и т. д., и т. д. Сходство с Альфьери весьма серьезно утверждалось одним итальянцем, знавшим его в молодые годы; разумеется, речь шла только о некоторых чертах наших характеров. Это говорилось не мне (мы тогда не были коротко знакомы), а в обществе.
Предмет стольких противоречивых сравнений должен, вероятно, быть не похож ни на одно из упомянутых лиц; но что же он, в таком случае, за человек — это я сказать не берусь, да и никто не возьмется.
(«Разрозненные мысли»).










Другие издания