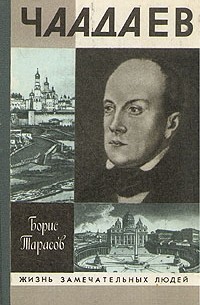Жизнь замечательных людей

- 1 859 книг
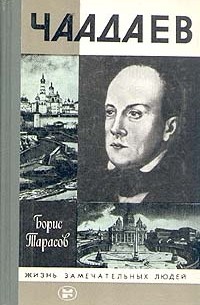
 Ваша оценка
Ваша оценкаЖанры
 Ваша оценка
Ваша оценка
Я бы начал так:
После того, как в мистическом опыте ему открылся замысел творца, у него появились две ученицы.
Дуня Норова, по-видимому, была первой, кого он попытался «обратить». Он гулял с ней по аллеям запущенного парка и проповедовал. Ему было тридцать три. Здесь, в деревне, как и в высшем обществе, он не терял ни щегольства в одежде, ни важной осанки, ни блистательности ума. Герой войны, красавец и интеллектуал. Все, кто его слышали – благоговели.
Чаадаев без труда, за две прогулки, целиком подчинил себе все существо девушки. Она влюбилась. Дуня поняла, что встретила «лучшего из людей».
– В женской пассивности я вижу залог подлинного творчества и покорения «высшей воле», – говорил он, понизив голос.
– Высшей воле… – чуть слышно вздыхала Дуня.
И не осмеливалась поднять глаз от дорожки.
– В женском типе гениальности я вижу способность лучше различать глас «божественного разума».
– Разума…
– Способность пропитаться «истинами откровения»!
– Да…
Подвигая Дуню Норову к совершенству, он вызвал в ней экзальтированное обожание. Вместо верного ученика на него смотрели бессмысленные влюбленные глаза девицы. Это не входило в планы пророка. Чаадаев прервал прогулки.
Дуня писала ему: «Когда я думаю о вас, у меня путаются мысли и кружится голова». И вязала ему чулки. Но Чаадаев не отвечал на письма. «Я хочу быть вашей служанкой, – не унималась она, – напишите мне хоть слово, прошу вас на коленях». Чаадаев молчал. Дуня была болезненной, слабой девушкой, тоска по Чаадаеву свела ее в могилу через пять лет. Любовь умирающей девушки была трогательной и возвышенной.
Второй была Катя Панова. Она поселилась неподалеку от Чаадаева с мужем, известным агрономом. С Чаадаевым она встретилась случайно, у соседей. Ей было двадцать три. Детей у нее не было, а в браке недоставало близости и теплоты. Молодая жена томилась пустотой окружающей среды, деревенской скукой и бесцельностью жизни. Чаадаев не мог не принять участия в этой женщине. Он решил подать ей руку помощи и спасти горячей проповедью. После нескольких писем она была полностью покорена его высокими мыслями. Слабое женское сердце опять вырывалось из границ философии. Опять любовь.
Чаадаев был разочарован. Но последнее письмо Пановой побудило его к написанию главного философского труда, которое принесло ему славу. Когда он закончил работу над ответом, Катя уже сошла с ума. Отправлять первое "Философическое письмо» адресату было бессмысленно.
Вот так бы я начал. А потом рассказывал бы о детстве, бабках и прабабках, философских основаниях концепции итд. 500-страничный труд Бориса Тарасова вызывает желание перемонтировать его и отсечь все ненужное. Книга очень основательная.
Чаадаев, конечно, – священный монстр, один из самых темных и непрочитанных авторов русской мысли. Про него известно лишь то, что на «обломках самовластия» будет красоваться его имя рядом с именем Пушкина, что Николай I официально объявил его сумасшедшим, а декабристы считали своим учителем. Ну, и да, в некоторых хороших вузах читают его первое «Философическое письмо» к гражданке Пановой. Остальные семь писем, готов поклясться, не читал никто.
Шут с ними, с текстами. Чаадаев интересен как архетип. Архетип человека, которого травмирует российская действительность. Который видит в России только темное злое пространство, населенное агрессивными людьми с бессмысленными лицами-обмылками. Управляют ими ограниченные ублюдки, и вся российская жизнь стоит в каком-то мерзлом оцепенении, как продукты в морозилке. «Бог!! – кричит такой человек в отчаянии. – Почему ты оставил эту страну?! За что ты забросил сюда МЕНЯ?!»
Среди нас ходит много таких Чаадаевых. Они не хотят видеть ни величия русской истории, ни культуры, ни высот русского духа. Они считают все наше бесконечно ниже, чем в Европе и Америке. Они готовы вслед за Чаадаевым сказать, что русские принадлежат к числу тех наций, которые существуют лишь для того, чтобы дать миру какой-нибудь важный отрицательный урок.
Интересно, что Чаадаев не заметил русской истории, будучи племянником историка Щербатова и знакомцем Карамзина, считал, что у нас нет литературы, близко общаясь с Пушкиным, и отказывал русскому народу в положительных свойствах, шествуя по Европе в авангарде армии-освободительницы.
Вот вопрос:
Виновата ли русская история, что не нашлось Шекспира, чтобы превратить ее в великую поэтическую драму, виновата ли русская литература, что ее не читают, виноват ли, в конце концов, русский народ, что им управляют мелкие тираны?! Наверное, да. Кругом виноваты. А что еще тут скажешь?

«Я всегда почитал его человеком весьма начитанным и, без сомнения, весьма умным шарлатаном в беспрерывном пароксизме честолюбия, но без духа и характера, как белокурая кокетка, в чем я, кажется, не ошибаюсь» (Д. Давыдов)
Человек, которого невежды того времени возвели в ранг русского философа, на самом деле, обучаясь в университете, не изучал русского языка. Мысли ему было легче излагать по-французски. Забегая вперед, можно сказать, что претензионные размышления Чаадаева об отсутствии такого понятия, как российская история, лишь означает отсутствие у него каких-либо знаний в этой сфере. Вместо того, чтобы уделить время на изучение истории родной страны, Чаадаев изучил танцы и прослыл незаурядным мастером французской кадрили. Странность и масштаб раскрученности проекта под названием «Чаадаев» поражают мыслящих людей своей нелогичностью. Напудренный мужчина, который написал восемь «философских» писем к женщине, ставится на одну ступень с такими монстрами, как Гегель и Кант! Не запятнав славой своего мундира в войну 1812 года, Чаадаев внезапно становится героем этой войны, едва ли, не потеснив таких настоящих героев, как Багратион и братья Раевские…
Посетив Париж вместе с победоносной армией, Чаадаев приходит в восторг от достижений западной «цивилизации». При этом, различные мелочи, наподобие поведения представителей цивилизации в России, Чаадаев как-бы не видит. А ведь в его Семеновском полку побывали два священника, которые ездили по воинским частям и рассказывали о надругательстве неприятеля: солдаты противника связали их бороды вместе, лицом к лицу, напоив рвотным камнем (впоследствии Кутузов, узнав об этом, велел им ездить по деревням и делать гласным поругание). Но Чаадаева больше волнует форма, а не содержание. Кстати, по утверждению его товарищей, именно из-за щегольской формы он решил перевестись из пехоты в кавалерию. Даже в Париже, замечает Муравьев-Апостол, Чаадаев поселился вместе с офицером П. А, Фридрихсом, «собственно, для того, чтобы перенять щегольский шик носить мундир. В 1811 году мундир Фридрихса, ношенный в продолжение трех лет, возили в Зимний дворец, напоказ». Чаадаев стремился любым способом выделиться из толпы. Он был первым из юношей, которые тогда полезли в гении, как говорили про него. Полез он и в популярное тогда масонство. Вступив в масоны в Кракове, в Петербурге он, как и другие известные и очень разные его современники — великий князь Константин Павлович, министр Балашев, мемуарист Вигель, будущий шеф жандармов Бенкендорф, будущий автор «Горя от ума» Грибоедов, будущие декабристы Пестель, М. И. Муравьев-Апостол, И. А. Долгоруков и др. — принадлежал к ложе «Соединенных друзей» и достиг в ней высокой степени мастера. Масонство противопоставлялось христианству, таким деятелям как Чаадаев обещались всякие свободы, которых на деле их лишали, присвоив ранг ученика. Но Чаадаев ставил славу гораздо выше свободы и обставлял свое имя туманным ореолом. Будучи отличным танцором, он вдруг перестает танцевать и стоит в углу в образе лондонского щеголя. А еще, Чаадаев зашел однажды в модный петербургский магазин (особенно часто он заходил в Английский магазин) за какой-то безделкой и не нашел должного и скорого интереса к своей особе, поскольку продавец торговал ценную вазу. Для привлечения к себе внимания офицер разбил вазу и тотчас же за нее заплатил. В поисках славы он оказался в доме Карамзина, где познакомился с Пушкиным. Чаадаев, увидев талант Пушкина, мгновенно прилепился к тому, словно рыба-прилипала и даже стал называть себя учителем поэта. Его целью стало «вдохнуть либеральность» в талант Пушкина. Свой портрет Чаадаев повесил между портретами Наполеона и Байрона, видимо причисляя себя к великим мира сего. На деле же, он был всего лишь адъютантом генерала Васильчикова. Того самого, который выдавал себя за либерала, требовал отмены крепостного права и в тоже время жаждал жестокого подавления восстания декабристов. Кстати говоря, очередной ступенью по лестнице славы для Чаадаева явились именно события, предшествовавшие восстанию. Несчастные офицеры, которые и так тратили большую часть своего жалованья на содержание лошадей, форму и так далее получили нового начальника-тирана в лице немца Шварца. Проявляя болезненную заботу о внешности подчиненных, он приказывал увязывать солдат в ремни для выправки талий, заставлял их тратить скудное жалованье на бесконечное беление амуниции и на фабру для усов. Не имеющие же собственных усов обязывались наклеивать искусственные, отчего на лице появлялись болячки. Офицеры начали роптать. Недовольный учениями и непослушанием нижних чинов, Шварц стал усиленно внедрять телесные наказания, заставляя шеренги солдат бить друг друга по щекам и плевать в лицо, поколачивал их своеручно и дергал за губы тех, у кого усы за неимением натуральных были наклеены несимметрично. Когда 16 октября 1820 года во время очередного учения один из рядовых встал в строй, не успев застегнуть пуговицы, Шварц плюнул ему в глаза, затем вывел из строя и приказал другим рядовым делать то же самое. В этот день получили телесное наказание награжденный Георгиевским крестом сержант и несколько нижних чинов. Офицеры потребовали смены командира, что было расценено командованием как бунт. Сам Васильчиков принял участие в поисках зачинщиков. Слухи о семеновском бунте начинают проникать во все знатные дома Петербурга. В конце концов, Васильчиков вынужден был послать своего адъютанта Чаадаева к царю с пояснениями. Царь, Александр I, был уже настроен прусским королем должным образом. Якобы причиной бунта был некий «комитет возмущения Европы» из Швейцарии. Чаадаев нигде и никогда не рассказывал о деталях своего доклада Александру I, но судя по итогам и по тому, как жестоко наказали офицеров, «философ» и не подумал поделиться с правителем России правдой, а просто предпочел поддакивать и кивать. Кстати, косвенным доказательством неспособности Чаадаева настоять на своей точке зрения, являются два факта, в которых он покаялся священнику перед смертью. Один раз, он стал свидетелем того, как навстречу его повозке по пустынной улице лошадь тащила под собой запутавшегося в поводьях всадника, который молил о помощи. Чаадаев хотел приказать своему извозчику остановиться, но не решился. Второй раз он ехал с доктором к больному знакомому и увидел на дороге умирающего крестьянина. Чаадаев попросил врача остановиться, но тот сказал, что «нам некогда». Настаивать Чаадаев не стал. Эти две смерти Чаадаев считал на своей совести и покаялся в них. Про семеновский бунт он даже не вспомнил. А ведь ехал он тогда с донесением к царю намеренно медленно. Так медленно, что его обогнал посланный из Петербурга курьер австрийского посла и сообщил о возмущении Семеновского полка находившемуся на конгрессе в Троппау австрийскому министру князю Моттерниху, от которого русский царь и узнал о печальном известии, что сильно раздосадовало Александра I.
Побоявшись поделиться правдой с царем, Чаадаев не может решиться впоследствии прямо выражать свои мысли. Публике он подает их под соусом так называемых философских писем, написанных к женщине. Но это будет потом. Пока же он, прослыв знаменитым как гонец к царю, будет кататься по Европе, требуя денег от брата. Его мучают запоры, и он «без ежедневного слабительного не мог обойтиться». Изредка он размышляет о свободе для крепостных. Однако, чем тяжелее становилось финансовое положение отставного ротмистра, тем больше он думал о своей пользе и меньше — о крестьянской. Более того, он просит брата продать в армию рекрутов и вырученные от продажи деньги поскорее прислать ему. В тоже время он начинает возить с собой повсюду камердинера Ивана Яковлевича. По впечатлению Свербеева, слуга был настоящим двойником своего барина, «одевался еще изысканнее, хотя всегда изящно, как и сам Петр Яковлевич, все им надеваемое стоило дороже. Петр Яковлевич, показывая свои часы, купленные в Женеве, приказывал Ивану Яковлевичу принести свои, и действительно выходило, что часы Ивана были вдвое лучше часов Петра…
Победу России в войне 1812 года Чаадаев все чаще начинает объяснять делом случая, ведь не могли же в самом деле дикари победить «цивилизацию». В этот период он встречает представителя секты методистов, англичанина Чарльза Кука, который играючи «промывает» мозги «философу». Кук видел причины благоденствия Англии в распространенном там духе веры, а его собеседник с горечью выразил свое мнение «о недостатке веры в народе русском, особенно в высших классах». Причину всему Чаадаев видит в отсутствии своей истории у России и во всеобщей безыдейности. Когда до него доходит весть о восстании декабристов, он мгновенно выдает сентенцию: «…я теперь ни в чем не убежден так твердо, как в том, что народу нашему не хватает прежде всего глубины. Мы прожили века так или почти так, как и другие, но мы никогда не размышляли, никогда не были движимы какой-либо идеей: вот почему вся будущность страны в один прекрасный день была разыграна в кости несколькими молодыми людьми, между трубкой и стаканом вина».
По возвращении в Россию он не видит там ничего, кроме соломенных крыш, которые после европейских крыш под красной черепицей сильно раздражают его. Очень скоро его начинают раздражать и лица соотечественников. «В чужих странах, особенно на юге, где физиономии так выразительны и так оживленны, не раз, сравнивая лица моих соотечественников с лицами туземцев, я поражался этой немотой наших лиц». Создав пропасть сначала между Россией и Западом, а затем прыгнув туда, Чаадаев начинает искать пути преодоления этой пропасти. Он ищет религию. Как бы ни рядил свое тело Чаадаев в блестящий мундир, он не мог спрятать за ним свое ничтожество, которое переносит на всех соотечественников, посмотрев на них взглядом со стороны, взглядом бога. «Таково зрелище, которое мы представляем всевышнему. Почему же он терпит все это? Почему не выметет из пространства этот мир возмутившихся тварей? И еще удивительнее, — зачем наделил он их этой страшной силой?»
Почитав разных философов и вдоволь покритиковав их, Чаадаев принимается за евангелие и рождает мысль о спасительной роли католической церкви. Именно эта церковь должна объединить мир. Все идеи запада цементирует «христианская идея», из которой, осознанно или подспудно, развиваются многие сферы общественной жизни, культуры и просвещения на Западе. По логике Чаадаева, только признав божественное откровение в начале мировой жизни и его «покровительство» в ее процессе, можно обосновать царство божие в ее конце, поступательное движение социального прогресса на протяжении всего исторического пути. Чаадаев говорит, что есть пророк, а есть серые массы народа. Объединить их сможет новая философия. Какой-то абсурд, но советские историки были первыми, кто причислил Чаадаева к «христианским» философам. Хотя он скорее был носителем идеи могущества католицизма в массы. В католичестве Чаадаева и привлекало прежде всего соединение религии с политикой, наукой, общественными преобразованиями, другими словами — «вдвинутость» в историю, а «Святой Дух был всегда Духом века», что прочно усвоила римская церковь, возложив на себя «обязанность непрестанно приспособляться к духу времен». Причину отсталости России Чаадаев видел в том, что, обособившись от католического Запада в период церковной схизмы, «мы ошиблись насчет настоящего духа религии» — не восприняли «чисто историческую сторону», социально-преобразовательное начало как внутреннее свойство христианства и потому «не собрали всех ее плодов», то есть плодов науки, культуры, цивилизации, благоустроенной жизни. Для того чтобы выйти из этого существования, достичь европейских успехов и участвовать в мировом прогрессе, Чаадаев считал необходимым России не просто слепо и поверхностно усвоить западные формы, но, впитав в кровь и плоть социальную идею католицизма, от начала повторить все этапы европейской истории. Для проталкивания своих идей Чаадаев пытается использовать Пушкина, хотя тот и не разделяет его философию и даже спорит с ней. Тем не менее, что-то, или кто-то вынуждает упомянуть Пушкина имя Чаадаева в произведении «Евгений Онегин», увековечив тем самым эту бездарность, одновременно сделав ей рекламу. Чаадаева бесит строптивость Пушкина, и он прямо говорит: «Нет более огорчительного зрелища в мире нравственном, чем зрелище гениального человека, не понимающего свой век и свое призвание. Когда видишь, как тот, кто должен был бы властвовать над умами, сам отдается во власть привычкам и рутинам черни, чувствуешь самого себя остановленным в своем движении вперед; говоришь себе: зачем этот человек мешает мне идти, когда он должен был бы вести меня?».
Увлечение католичеством настолько захватывает Чаадаева, что он даже меняет портреты в своем кабинете – теперь там висят Александр I и Папа Римский. Чаадаев хочет стать основателем новой философии и спешит опубликовать свои философские письма. После публикации первого письма имя Чаадаева приобретает скандальную известность. Этому способствует не только само содержание писем, но и реклама, которую делают им все и вся, не исключая царя. Так Загоскин пишет комедию «Недовольные», для которой тему ему дал государь». Тему дал государь, а вот прототипами действующих лиц служили Михаил Федорович и Петр Яковлевич. Давыдов пишет про него стишки:
…Томы Тьера и Рабо
Он на память знает
И, как ярый Мирабо,
Вольность прославляет.
А глядишь: наш Мирабо
Старого Гаврило
За измятое жабо
Хлещет в ус да в рыло.
Про Чаадаева, — замечает М. И. Жихарев, — узнали люди, которые никогда его не видали, кругом своего существования были от него совершенно отделены, никогда не имели никакой возможности с ним встретиться, и без того, быть может, про него во всю жизнь бы не сведали. По милости его блистательного, искрившегося мыслями разговора стали ему приписывать то, чего он никогда не говорил; по той причине, что писал он не по-русски, стяжал, — чего с кровно русскими почти что никогда не бывает, — очень большую популярность между иностранцами, у нас проживающими. Его сочинения начали уже ходить по рукам, разными лицами переписанные с ошибками и пропусками, а про него самого выдумывали небывалые анекдоты.
Венцом этой рекламы стала встреча Чаадаева с митрополитом. Их разговор про римскую церковь был кратким и больше вращался вокруг протестантизма, над которым оба собеседника с тонкою и лукавою мудростью посмеивались. Чаадаев воротился от митрополита в восхищении, а вскоре затем начал переводить его французскую проповедь, сказанную при освящении церкви при московском остроге. Этим митрополит опять был очень доволен и про такое его занятие с удовольствием благодушно сообщал различным лицам, которые до того Чаадаева терпеть не могли, но теперь, видя его на таком душеспасительном пути, ему многое прощали и даже пожелали с ним войти в общение». Как все это напоминает встречу патриарха Кирилла с Папой Римским на Кубе, где главным было создание прецедента о возникновении мысли о возможности объединения церквей. Своей новой философией, а точнее отсутствием ее, Чаадаев положил начало бесконечным спорам о роли и значении папства для русской церкви и наоборот. Споры эти заочно велись в иностранных изданиях кем угодно (например, Тютчевым). Мысль о совершенстве западной цивилизации настолько глубоко въелась в подкорку сознания Чаадаева, что даже нашествие цивилизованных варваров в Крым не смогло поколебать его веру в нее. Неудача России в Крымской войне лишь усилила борьбу со славянофильскими течениями. Ближе к концу жизни Чаадаев задумывает написать труд о необходимости сохранения крепостного права в России, но не успевает. Он умирает и последней заботой его мыслей, был красивый и подобающий вид его мертвого тела на столе…

Взгляните на него — просто страшно за Россию. Это тупое выражение, эти оловянные глаза».

Когда однажды в Царском Селе сорвался с цепи медведь и чуть не бросился на царя, Пушкин сострил по этому поводу: «Нашелся один человек, да и тот медведь!»












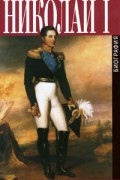

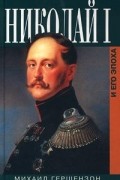

Другие издания