
Хочу в подарок

- 227 книг
Это бета-версия LiveLib. Сейчас доступна часть функций, остальные из основной версии будут добавляться постепенно.
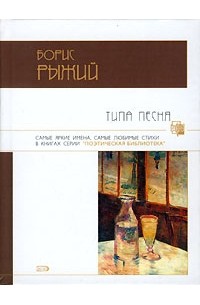
 Ваша оценка
Ваша оценкаЖанры
 Ваша оценка
Ваша оценка
На днях в букинистический магазин сдали небольшую библиотеку с очень интересными и довольно редкими книгами. Особенно порадовали меня издания русских авторов. Это были не издававшиеся в советское время книги поэтов серебряного века, а также несколько сборников современных российских писателей и поэтов. Среди них была и данная книга Бориса Рыжего. К сожалению, до этого мне не приходилось слышать о нем. Прочитав в магазине несколько стихотворений, я сразу припрятал книгу, чтоб позже ее купить. Придя домой, я первым делом решил погуглить информацию об авторе, и до чего же я был (как бы вернее выразиться?) разочарован/огорчен, когда узнал, что Борис Рыжий покончил с собой. Судя по информации в сети, у него была жена и сын. Что делать со своей жизнью - это, конечно, выбор каждого, но как-то горько на душе стало от этой информации. Вот некоторые из его стихотворений:
"Две минуты до Нового года
...Мальчик ждет возле елочки чуда –
две минуты до полночи целых.
Уберите ж конфеты и блюдо
желтых сладких и розовых спелых.
Не солдатиков в яркой окраске,
не машинку, не ключик к машинке –
мальчик ждет возле елочки сказки.
Две минутки растают как льдинки.
Погляжу за окошко невольно –
мне б во мрак ускользнуть и остаться.
Мне сегодня за мальчика больно,
я готов вместе с ним разрыдаться.
Но не стану, воспитанный строго,
я ведь тоже виновен немножко –
вместо чуда, в отсутствии Бога,
рад вложить безделушку в ладошку".
Думаю, в жизни любого сознательного человека бывали минуты отчаяния или чувства одиночества. Читая стихи Рыжего, понимаешь, что он практически всегда был одинок. Несмотря на наличие друзей, родных и близких, он постоянно был вне этого мира. Не знаю, состояние ли это души, или просто особая черта характера, но некая грань между ним и окружением всегда ощущается в его творчестве:
"Ничего не надо, даже счастья
быть любимым, не
надо даже тёплого участья,
яблони в окне.
Ни печали женской, ни печали,
горечи, стыда.
Рожей - в грязь, и чтоб не поднимали
больше никогда.
Не вели бухого до кровати.
Вот моя строка:
без меня отчаливайте, хватит
Жалуйтесь, читайте и жалейте,
греясь у огня,
вслух читайте, смейтесь, слёзы лейте.
Только без меня.
Ничего действительно не надо,
что ни назови:
ни чужого яблоневого сада,
ни чужой любви,
что тебя поддерживает нежно,
уронить боясь.
Лучше страшно, лучше безнадежно,
лучше рылом в грязь".
Хармс как-то писал, что при грязном падении человеку остается только одно: не оглядываясь, падать. Рыжий выбрал именно этот путь. Был ли он грязным или чистым, уже не так важно. Он сам выбрал свою судьбу. Просто жаль, что погиб очередной поэт. В его творчестве, наряду с темой одиночества, часто встречаются и "пацанские" стихи: где и как выпили, подрались, избили и т.п. Мне она чужда, и никакой эстетики я в этой теме не вижу. Однако это часть жизни Рыжего и людей его поколения, или, если угодно, части его окружения. Возможно, в этом он видел что-то родное, толику ушедшего детства и взросления. Нечто подобное описывает и Захар Прилепин. Там проза, тут поэзия, но в целом они пишут об одном и том же: это жизнь целого поколения людей, мысленно оставшихся на стыке разваливающегося СССР и бандитских девяностых.
Родные покончившего с собой человека часто начинают упрекать себя. Они думают, что, возможно, это была их вина, может, они сами чего-то недоглядели. Однако, читая стихи Рыжего, понимаешь, что вся проблема была в нем. Смерть всегда находилась рядом с Рыжим, она являлась частью его поэтического наследия. Рано или поздно, смерть должна была выйти из границ сочиненного им мира. Самоубийство было лишь вопросом времени.
О. Дозморову
"Не жалей о прошлом, будь что было,
даже если дело было дрянь.
Штора с чем-то вроде носорога.
На окне какая-то герань.
Вспоминаю, с вечера поддали,
вынули гвоздики из петлиц,
в городе Перми заночевали
у филологических девиц.
На комоде плюшевый мишутка.
Стонет холодильник "Бирюса".
Потому так скверно и так жутко,
что банальней выдумать нельзя.
Я хочу сказать тебе заранее,
милый друг, однажды я умру
на чужом продавленном диване,
головой болея поутру.
Если правда так оно и выйдет,
кто-то тихо вскрикнет за стеной -
это Аня Кузина увидит
светлое сиянье надо мной".
*
"Пока я спал, повсюду выпал снег -
он падал с неба, белый, синеватый,
и даже вышел грозный человек
с огромной самодельною лопатой
и разбудил меня. А снег меня
не разбудил, он очень тихо падал.
Проснулся я посередине дня,
и за стеной ребёнок тихо плакал.
Давным-давно я вышел в снегопад
без шапки и пальто, до остановки
бежал бегом и был до смерти рад
подруге милой в заячьей обновке -
мы шли ко мне, повсюду снег лежал,
и двор был пуст, вдвоём на целом свете
мы были с ней, и я поцеловал
её тогда, взволнованные дети,
мы озирались, я тайком, она
открыто. Где теперь мои печали,
мои тревоги? Стоя у окна,
я слышу плач и вижу снег. Едва ли
теперь бы побежал, не столь горяч.
(Снег синеват, что простыни от прачек.)
Скреби лопатой, человече, плачь,
мой мальчик или девочка, мой мальчик".

Есть такие стихи, которые болью отдаются в душе. И хочется заплакать, как в детстве, уткнуться в мамино плечо, бормотать в мокрую от слез ткань свои беды, выплескивая одиночество, обиды, горечь. Мне очень тоскливо от этих стихов, очень муторно, но в то же время чувствую, как они отдаются во мне, эти строки, набатом. Помнить! О прошлом, о детстве, о матери, о жизни этой, такой быстротечной, печальной и прекрасной. Борис Рыжий так проникновенно написал, передал тоску по матери, по по детству, тому, что ушло и не вернется уже:
И настанет время потом, потом —
не на черно-белом, а на цветном
фото, не на фото, а наяву
точно так же я тебя обниму.
И исчезнут морщины у глаз, у рта,
ты ребенком станешь — о, навсегда! —
с алой лентой, вьющейся на ветру.
...Когда ты уйдешь, когда я умру.
Но можно желать, мечтать, лелеять свою мечту, чтобы мама была снова девочкой беззаботной с алой лентой, вьющейся на ветру. Тогда не было бы этих строк:
И когда ты плакала по ночам,
я, ладони в мыслях к твоим плечам
прижимая, смог наконец понять,
понял я: ты дочь моя, а не мать.
Некоторые стихи прошли мимо. Возможно оттого, что описывают жизнь, мне не очень знакомую. Я очень мало сталкивалась с "грязью" жизни, не считая одного года игры, и боюсь знать, если честно. А он пишет:
Я помню всё, хоть многое забыл —
разболтанную школьную ватагу.
Мы к Первомаю замутили брагу,
я из канистры первым пригубил.
Я помню час, когда ногами нас
за буйство избивали демонстранты.
Ах, музыка, ах, розовые банты.
О, раньше было лучше, чем сейчас —
по-доброму, с улыбкой, как во сне.
И чудом не потухла папироска.
Мы все лежим на площади Свердловска,
где памятник поставят только мне.
И подобных стихов очень много. Алкоголь, драки, шпана, урки, наколки на спине Иосиф Бродский/напортачен у бугра или профиль Слуцкого наколот/на седеющей груди, перемежаются крепкими словечками. И беспросветность сквозит из всех щелей. Осень с палыми, сухими листьями, и тоска по настоящим живым близким людям, я по листьям сухим не бродил/с сыном за руку, за облаками, только сны и сны, детский смех... И одиночество, тишина пустогожилья, накатывающие мысли о самоубийстве:
Убить себя? Возможно, не кошмар, но
хоть повод был бы, такового нет.
Самоубийство — в восемнадцать лет
ещё нормально, в двадцать два —
вульгарно...
Нет, не в двадцать два, а в двадцать шесть... Четыре года всего прошло.
И вот за те строки, которые словно удар под дых, я готова простить многое. И перечитывать полюбившееся буду, даже если наждаком по сердцу, в клочья. Если ноет и болит, значит живое, и это самое главное...
Так я понял: ты дочь моя, а не мать,
только надо крепче тебя обнять
и взглянуть через голову за окно,
где сто лет назад, где давным-давно
сопляком шмонался я по двору
и тайком прикуривал на ветру,
окружен шпаной, но всегда один —
твой единственный, твой любимый сын.
Только надо крепче тебя обнять
и потом ладоней не отнимать
сквозь туман и дождь, через сны и сны.
Пред тобой одной я не знал вины.
И когда ты плакала по ночам,
я, ладони в мыслях к твоим плечам
прижимая , смог наконец понять,
понял я: ты дочь моя, а не мать.
И настанет время потом, потом —
не на черно-белом, а на цветном
фото, не на фото, а наяву
точно так же я тебя обниму.
И исчезнут морщины у глаз, у рта,
ты ребенком станешь — о, навсегда! —
с алой лентой, вьющейся на ветру.
...Когда ты уйдешь, когда я умру.
1999
С работы возвращаешься домой
и нехотя беседуешь с собой
то нехотя, то зло, то осторожно:
— Какие там судьба, эпоха, рок,
я просто человек и одинок
насколько это вообще возможно.
Повсюду снег, и смертная тоска,
и гробовая, видимо, доска.
Убить себя? Возможно, не кошмар, но
хоть повод был бы, такового нет.
Самоубийство — в восемнадцать лет
ещё нормально, в двадцать два —
вульгарно...
В подъезд заходишь, лязгает замок,
ступаешь машинально за порог,
а в голове — прочитанный однажды
Петрарки, что ли, душу рвущий стих:
«Быть может, слёзы из очей твоих
исторгну вновь — и не умру от жажды».
Ничего не надо, даже счастья
быть любимым, не
надо даже тёплого участья,
яблони в окне.
Ни печали женской, ни печали,
горечи, стыда.
Рожей — в грязь, и чтоб не поднимали
больше никогда.
Не вели бухого до кровати.
Вот моя строка:
без меня отчаливайте, хватит
— небо, облака!
Жалуйтесь, читайте и жалейте,
греясь у огня,
вслух читайте, смейтесь, слёзы лейте.
Только без меня.
Ничего действительно не надо,
что ни назови:
ни чужого яблоневого сада,
ни чужой любви,
что тебя поддерживает нежно,
уронить боясь.
Лучше страшно, лучше безнадежно,
лучше рылом в грязь.
Если в прошлое, лучше трамваем
со звоночком, поддатым соседом,
грязным школьником, тётей с приветом,
чтоб листва тополиная следом.
Через пять или шесть остановок
въедем в восьмидесятые годы:
слева — фабрики, справа — заводы,
не тушуйся, закуривай, что ты.
Что ты мямлишь скептически, типа
это всё из набоковской прозы,
он барчук, мы с тобою отбросы,
улыбнись, на лице твоём слёзы.
Это наша с тобой остановка:
там — плакаты, а там — транспаранты,
небо синее, красные банты,
чьи-то похороны, музыканты.
Подыграй на зубах этим дядям
и отчаль под красивые звуки,
куртка кожаная, руки в брюки,
да по улочке вечной разлуки.
Да по улице вечной печали
в дом родимый, сливаясь с закатом,
одиночеством, сном, листопадом,
возвращайся убитым солдатом.
*
Ты столь паршива, моя кошка,
что гимн слагать тебе не буду.
Давай, гляди в свое окошко,
пока я мою здесь посуду.
Тебя я притащил по пьянке,
Была ты маленьким котенком.
И за ушами были ранки.
И я их смазывал зеленкой.
Единственное, что тревожит,-
когда войду в пределы мрака,
тебе настанет крышка тоже.
И вот от этого мне страшно.
И вот поэтому мне больно.
А остальное все - не важно.
Шестнадцать строчек. Ты довольна?
***
Над могилами белое.
Я хочу повторить эту фразу —
над могилами белое,
голубое и синее сразу.
Тишина нагнетается
обоюдно — и сверху, и снизу.
И родство ощущается,
не готовым к такому сюрпризу
нервным мальчиком маленьким —
все он ходит и ходит за мною.
Объясни мне, мой маленький,
расскажи мне, с какой тишиною?

А иногда отец мне говорил,
что видит про утиную охоту
сны с продолженьем: лодка и двустволка.
И озеро, где каждый островок
ему знаком. Он говорил: не видел
я озера такого наяву
прозрачного, какая там охота! -
представь себе... А впрочем, что ты знаешь
про наши про охотничьи дела!
Скучая, я вставал из-за стола
и шёл читать какого-нибудь Кафку,
жалеть себя и сочинять стихи
под Бродского, о том, что человек,
конечно, одиночество в квадрате,
нет, в кубе. Или нехотя звонил
замужней дуре, любящей стихи
под Бродского, а заодно меня -
какой-то экзотической любовью.
Прощай, любовь! Прошло десятилетье.
Ты подурнела, я похорошел,
и снов моих ты больше не хозяйка.
Я за отца досматриваю сны:
прозрачным этим озером блуждаю
на лодочке дюралевой с двустволкой,
любовно огибаю камыши,
чучела расставляю, маскируюсь
и жду, и не промахиваюсь, точно
стреляю, что сомнительно для сна.
Что, повторюсь, сомнительно для сна,
но это только сон и не иначе,
я понимаю это до конца.
И всякий раз, не повстречав отца,
я просыпаюсь, оттого что плачу.
Веди меня аллеями пустыми,
о чем-нибудь ненужном говори,
нечетко проговаривая имя.
Оплакивают лето фонари.
Два фонаря оплакивают лето.
Кусты рябины. Влажная скамья.
Любимая, до самого рассвета
побудь со мной, потом оставь меня.
А я, оставшись тенью потускневшей,
еще немного послоняюсь тут,
все вспомню: свет палящий, мрак кромешный.
И сам исчезну через пять минут.
Гимн кошке
Ты столь паршива, моя кошка,
что гимн слагать тебе не буду.
Давай, гляди в свое окошко,
пока я мою здесь посуду.
Тебя я притащил по пьянке,
была ты маленьким котенком.
И за ушами были ранки.
И я их смазывал зеленкой.
Единственное, что тревожит, —
когда войду в пределы мрака,
тебе настанет крышка тоже.
И в этом что-то есть, однако.
И вот от этого мне страшно.
И вот поэтому мне больно.
А остальное все — не важно.
Шестнадцать строчек. Ты довольна

С работы возвращаешься домой
и нехотя беседуешь с собой
то нехотя, то зло, то осторожно:
— Какие там судьба, эпоха, рок,
я просто человек и одинок
насколько это вообще возможно.
Повсюду снег, и смертная тоска,
и гробовая, видимо, доска.
Убить себя? Возможно, не кошмар, но
хоть повод был бы, такового нет.
Самоубийство — в восемнадцать лет
ещё нормально, в двадцать два —
вульгарно...
В подъезд заходишь, лязгает замок,
ступаешь машинально за порог,
а в голове — прочитанный однажды
Петрарки, что ли, душу рвущий стих:
«Быть может, слёзы из очей твоих
исторгну вновь — и не умру от жажды».

Ничего не надо, даже счастья
быть любимым, не
надо даже тёплого участья,
яблони в окне.
Ни печали женской, ни печали,
горечи, стыда.
Рожей — в грязь, и чтоб не поднимали
больше никогда.
Не вели бухого до кровати.
Вот моя строка:
без меня отчаливайте, хватит
— небо, облака!
Жалуйтесь, читайте и жалейте,
греясь у огня,
вслух читайте, смейтесь, слёзы лейте.
Только без меня.
Ничего действительно не надо,
что ни назови:
ни чужого яблоневого сада,
ни чужой любви,
что тебя поддерживает нежно,
уронить боясь.
Лучше страшно, лучше безнадежно,
лучше рылом в грязь.
Другие издания
