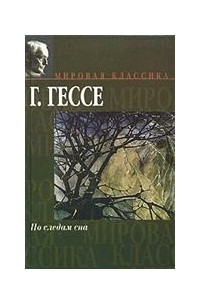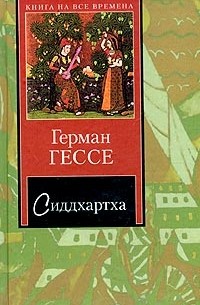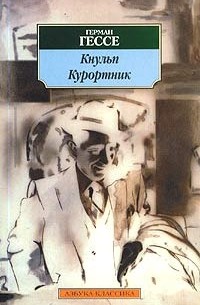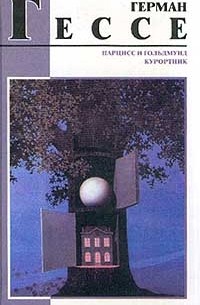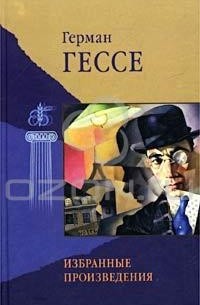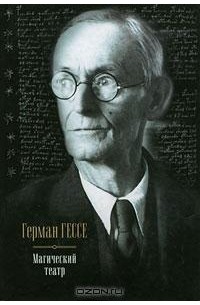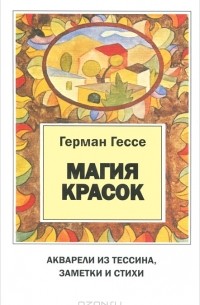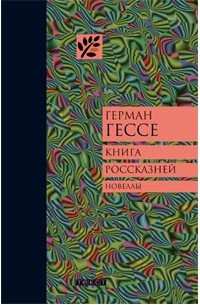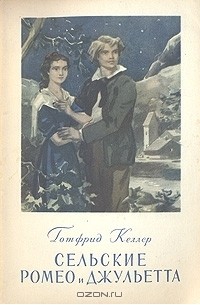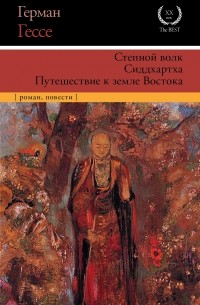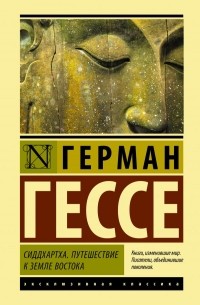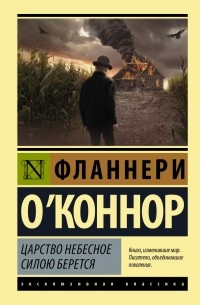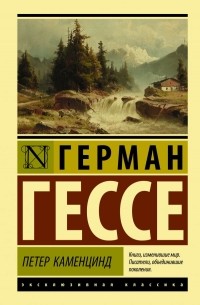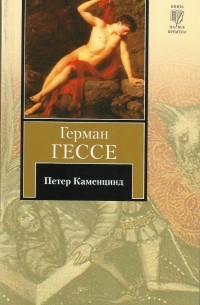Ваша оценка
Ваша оценкаЖанры
Рейтинг LiveLib
- 547%
- 439%
- 312%
- 21%
- 10%
 Ваша оценка
Ваша оценкаРецензии
 countymayo4 октября 2012 г.Читать далее
countymayo4 октября 2012 г.Читать далееВо время чтения "Петера Каменцинда" я поставила своеобразный рекорд: больше пятидесяти раз ругала себя на чём свет стоит за незнание немецкого языка. Нет, перевод Вл. Седельника прекрасен, но разве можно сорваться в пропасть, влюбиться, сжечь то, чему поклонялся, и поклониться тому, что сжигал, в переводе, не в подлиннике? Так или иначе, 2012 год стал для меня годом Гессе: на флэшмобе его произведения предложили два разных советчика, не сговариваясь, с интервалом 3 минуты. Так что сначала ко мне в гости пришёл "Степной волк", а потом на огонёк заглянул "Петер Каменцинд", самый первый роман великого швейцарца, принёсший ему славу.
Юноши, да и девушки, обдумывающие житьё, нередко прибегают к Гессе, да и к другим общепринято мудрым писателям - от Достоевского до Сент-Экзюпери - как к рецептурному сборнику стопроцентного успеха и непоколебимого душевного равновесия. И каков же результат? Самые прозорливые суждения не спасают от воров в тёмных подворотнях, кровожадных оборотней с погонами и без, химических зависимостей... Ну вообще ничего не гарантируют. Тут начинается: ах-ах, Гессе (Достоевский, Сент-Экзюпери) врёт, он никакой не мудрец, а сектант, злонамеренный сказочник или дуралей хуже моего. Так-то оно так, если не замечать очевидного: а) рецептов счастья не существует, б) и троекратное ура.
Наверное. поэтому не ослабевает популярность книг, посвящённых ученичеству, обретению мастерства, труднопереводимому немецкому Gesellenjahre, годам труда в качестве подмастерья. Петер Каменцинд - это такой швейцарский Гарри Поттер с поправкой на реальность. Гарри Поттер, разочаровавшийся в волшебстве и возвратившийся к Дурслеям в комнатку под лестницей. Дядя Вернон совсем состарился, ему надо помогать...
Ну, это я, право, перегибаю палку, не всё так уныло, однако в перегибе есть доля истины. Путешествие, чтобы состояться, должно включать в себя возвращение. То есть оценку, зачем я пошёл и то ли, что я нашёл. Петер - ни много, ни мало - хотел познать истину и найти друга.
Удалось ли? Вот вопрос и для Петера, и для нас с вами, и, как ни странно, для автора. Потому как у Германа Гессе есть Особенная Черта. Даже не черта: зазор, узкая, но глубокая пропасть между господином Героем и господином Автором.
Герой может исступленно проповедовать идеи Автора, тонко проводить их в действительность или постепенно, полегонечку к ним приходить, но никогда полностью не тождественен Автору. Непременно остаётся вопрос, в какой степени Автор с Героем изволит соглашаться. Больше того, Автор будто следит за Героем, поминутно приговаривая: "Ай, бравушки, мне бы и в голову не пришло". Как Иван Карамазов за чортом, с той лишь только разницей, что Гессе своих чертей не страшится...
И отсюда тянется красной нитью ещё один приём, из-за которого я перед Гессе преклоняюсь. Не брезгуя пафосом и не злоупотребляя им, он его тщательно дозирует. То нагнетает, то ослабляет давление. Сама фамилия Каменцинд - редкая, благозвучная, - не лишена пафоса, но Петер тут же разрушает ожидания: да у нас вся деревня Каменцинды, кроме пекаря! Далее, в рассказе о детстве: совершался странный акт искупления и наказания (градус патетики всё выше) - отец задавал мне порку, причём ни он, ни я не знали точно, за что (вся патетика псу под хвост). Так что в начале века Гессе многим казался чересчур прозаичным, а сейчас - чрезмерно воодушевлённым, наигранным.
Истина, как всегда, посередине. В пропасти. Или на шахматной доске, лежащей между Героем - восторженным бездельником-юнцом и Автором - таким же юнцом, но уже пере-жившим, пере-нёсшим, пере-страдавшим.- Петер Каменцинд, - сказал однажды профессор истории, - ты скверный ученик, но когда-нибудь ты все же станешь историком. Ибо ты ленив, но умеешь отличать великое от ничтожного.
99682 margo00011 июля 2013 г.Читать далее
margo00011 июля 2013 г.Читать далееФМ-2013 (8/15)
Ох, горе мне, горе!... Ну почему, почему же я забросила в свое время изучение иностранных языков??!!! Почему я лишила себя такого блаженства, как чтение литературы на языке оригинала?!
Впрочем... Впрочем, я изучала в свое время английский язык, а сетую по поводу немецкого.
Причина проста: сейчас мной овладело страстное желание прочитать эту небольшую повесть Гессе в ее исконном варианте. Ну, или хотя бы узнать у полиглотов: скажите, эта повесть так же прекрасна и на немецком, да??!!Боже! Вот пишут же люди, а?! Слова как мед, как нектар, они льются на тебя, пропитывая своей сладостью каждую твою частичку...
Но стоп.
Это я на первых нескольких страницах была уверена, что ценность данного произведения в его стиле, в его языке, в этой паутине, опутывающей и убаюкивающей тебя.
Т.е. вначале я была уверена, что этот текст ценен как текст. Что его нужно читать ради самого процесса чтения.Но, прочитав примерно треть, я вдруг поймала себя на том, что невероятно увлечена судьбой главного героя, что он мне близок, что уже почти любим мной - этот угрюмый, закрытый, время от времени страдающий социофобией горец, отличающийся при этом невероятной жаждой познания, филологическими и эстетическими устремлениями, чувством стиля, вкусом, способностью глубоко чувствовать и переживать.
Эта повесть - поэма. Увлекательная, порой остросюжетная, лирическая, драматическая. Поэма, воспевающая Дружбу, Любовь, Природу, Жизнь Людей.
Красивая и очень интересная вещь.Ее можно читать вслух, ее можно заучивать, к ней можно возвращаться время от времени - иначе говоря, самая настоящая Настольная Книга.
И - это первое, что я прочитала у Гессе! Хорошее начало.75655 evgeniya-preobrazhenskaya4 июля 2025 г.
evgeniya-preobrazhenskaya4 июля 2025 г.Чистый восторг
Читать далееВо времена уныния и нечитуна я спасаюсь Гессе. Устав от пресности современной литературы, от злобы и обиды Ницше, я вернулась к нему. (Скоро я перечитаю всего Гессе, но это и не важно.) Можно открыть любую его книгу и окунуться в неповторимый полный магии реализм, необыкновенное внимание и любование деталями, ощущениями, переживаниями, одухотворяющей природой и природой души человека.
И не так важен сюжет, герой, действие… Они могут вызывать отторжение, осуждение, несогласие. Но я бесконечно наслаждаюсь мыслями мудреца, поэтичным слогом, взглядом художника.
Начинается «Петр Каменцинд» с описания детства простого деревенского паренька. Казалось бы, что там интересного? Но уже с первых строк ныряешь в восхитительную глубину его души, растворяешься в красоте швейцарских Альп.
Петр не такой как все. (Каждый из нас не такой, как все. И в этом мы так похожи, так близки.) Петр любуется каждой травинкой, каждой сосенкой, горами и ветром, при этом не до конца понимает и принимает людей. Ему предстоит этому научиться.
Шаг за шагом, страница за страницей мы следуем за героем через его детство, отрочество, юность и зрелость, через горы и города, Италию, Францию, Швейцарию.
Петр покидает родную деревню, чтобы получить высшее образование, стать журналистом, поэтом, путешественником и найти в себе писателя. Мы проживаем вместе с ним влюблённость и пылкую дружбу, первые потери и трагедии. А в итоге все равно возвращаемся в родную деревню…Ах, мне так не хватило конца – старости, пусть бы и смерти! Даже проверила, точно ли у меня полная версия книги? Но со временем пришло понимание: все неспроста.
Перед нами зрелый мужчина, так и не создавший свою семью. Его отец болен, крыша дома протекает, любовь всей жизни растит не его детей. Все, что осталось – начало рукописи и воспоминания.
Мне увиделось, что конец – лишь начало новой жизни Петра. Он допишет рукопись. И создаст не одну книгу. Я же знаю, кем стал его творец. А мы, творцы, вечно пишем о самих себе)
55241
Цитаты
 TibetanFox5 марта 2013 г.
TibetanFox5 марта 2013 г.Ах, любовь существует не для того, чтобы делать нас счастливыми. Я думаю, она создана, чтобы показать нам, насколько мы сильны в страдании и терпении.
709,8K Limortel10 мая 2018 г.Читать далее
Limortel10 мая 2018 г.Читать далееМужчины и женщины наши тоже были похожи на них: строгие, темноликие, неразговорчивые, а лучшие из них – и вовсе молчуны. Потому-то я и привык смотреть на людей, как на деревья или скалы, задумываться о них и почитать их не меньше, а любить не больше, чем тихие сосны.
Зависимость от природных сил и скудость бытия, полного бесконечных трудов и забот, сообщили нашему и без того стареющему роду некоторую склонность к мрачному глубокомыслию, которое, хотя и подходило как нельзя лучше к грубым, словно высеченным из камня лицам, но и не приносило никаких плодов, во всяком случае сладких. Потому-то все и рады были тем двум-трем шутам, которые, будучи людьми тихими и даже серьезными, все же привносили немного цвета в серые будни и частенько давали повод для веселья и насмешек.
Выросший среди гор человек может годами изучать философию или historia naturalis и сколько угодно доказывать, что никакого Господа Бога вовсе и нет, – но стоит ему только вновь почувствовать дыхание фена или услышать, как трещит лес под тяжестью снежной лавины, как он тут же вспоминает о Боге и о смерти.
Сам того не подозревая, мой славный родитель следовал скромной педагогике, которой охотно пользуется и жизнь, посылая нам время от времени гром и молнии среди ясного неба и предоставляя нам при этом самим доискиваться до причин наказания и размышлять о том, какими же прегрешениями мы прогневили небесные силы.
Горы, озеро, ветер и солнце были моими друзьями, рассказывали мне множество историй, воспитывали меня и были мне долгое время родней и понятнее людей и их судеб. Любимцами же моими, которых я предпочитал и сверкающему озеру, и печальным соснам, и солнечным скалам, были облака.
О облака, прекрасные, плывущие вдаль неутомимые странники! Я был несмышленым мечтателем и любил их, любовался на них и не знал, что и сам поплыву таким же облаком по небосводу жизни, всем чужой, странник, парящий между временем и вечностью.
Тот, кто десять лет прожил на крохотном клочке земли, стиснутом с двух сторон горами и озером, в окружении высоких вершин, никогда не забудет тот миг, когда над головой у него впервые разверзлась широкая голубая бездна, а перед глазами раскинулся бескрайний горизонт.
Вот, оказывается, как сказочно велик этот мир! Наша деревушка, затерянная где-то далеко внизу, была всего лишь маленьким светлым пятнышком. А вершины, которые при взгляде из долины можно было принять за близких соседей, отделяли друг от друга многие часы пути. И тогда во мне шевельнулось предчувствие, что жизнь пока что одарила меня лишь ленивым прищуром, ни разу не удостоив открытого взора, что где-то за пределами моего крохотного мирка, быть может, рождаются и рушатся горы и происходят другие великие события, весть о которых никогда даже не коснется легким крылом нашего глухого горного захолустья. И в то же время во мне что-то задрожало, подобно стрелке компаса, и жадно потянулось к этой великой дали. Лишь теперь мне до конца стали понятны красота и тоска облаков, когда я увидел, по каким бесконечным просторам совершали они свои странствия.
Нрав людей в наших краях словно подернут легкой, мутной поволокой, причины которой – долгие зимы, опасности, непрерывная, изнуряющая забота о хлебе насущном и оторванность от большой жизни.
Если говорить о любви, то тут я так и остался на всю жизнь недорослем. Любовь к женщине для меня есть некий очищающий культ, упругое пламя, воспылавшее из туманности моей тоскующей души, руки, в молитве воздетые к сияющим небесам. Под наитием чувств, связывавших меня с матерью, и своих собственных, неизъяснимых чувств я почитал всех женщин как некий чуждый нам, прекрасный и загадочный род, превосходящий нас врожденною красотой и цельностью души, к которому нам надлежит относиться с благоговением, ибо он, подобно небесным светилам и голубым горным высям, бесконечно далек от нас, а стало быть, ближе к Богу.
Для юности и любви ничего невозможного нет.
Меня возмущала и одновременно расслабляла нахальная бесцеремонность, с какою примитивная, повседневная жизнь ежечасно заявляла о своих правах и пожирала тот избыток молодых сил и бодрости, привезенный мною с собой.
Недели тянулись невыносимо медленно, так что казалось, будто мне суждено растратить всю свою молодость на эти муки отчаяния и раздвоенности.
Внимание мое привлекли ее руки, лежавшие поверх простыни, неподвижные, чем-то похожие на двух спящих сестер. По этим рукам я понял, что мать умирает, ибо в их неподвижности была такая смертельная усталость и покорность, какую можно увидеть только у умирающего.
Впервые подумал: как хорошо во время жизненных невзгод иметь над головою отчий кров и ощущать свою принадлежность маленькой, надежной общине близких людей!
День этот наступил, зарока же своего я не сдержал. Желтое ваадтлендское, рубиновое фельтлинское, невшательское «звездное» и множество других вин с тех пор вошли в мою жизнь и стали мне закадычными друзьями.
Нет занятия более бесплодного, чем раздумья о любимом человеке. Ход мыслей в них подобен народным или солдатским песням, в которых поется и о том, и о сем, и обо всем на свете, но после каждой строфы упорно повторяется один и тот же припев, даже если он по смыслу своему совсем не к месту.
Если бы мы не были знакомы так близко, я, вероятно, еще долго молча боготворил бы ее и безропотно терпел невысказанные муки. Но видеть ее почти каждый день, бывать в ее доме, говорить с ней, подавать ей руку, ни на миг не в силах забыть про кровоточащую занозу в сердце, – этого я вынести не мог.
– Ах, любовь существует вовсе не для того, чтобы делать нас счастливыми. Я думаю, она существует для того, чтобы показать нам, как сильны мы можем быть в страданиях и тяготах бытия.
Лодка стремительно скользила по воде, и я, корчась на костре неистовой боли и стыда, бушевавшего в моей груди, обливался потом и одновременно зябнул.
Вот что такое вино. Однако, как и все прочие драгоценные дары и искусства, оно требует к себе особого отношения: любви, трепетных поисков, понимания и жертв. Это под силу лишь немногим, и оно губит людей тысячами. Оно превращает их в старцев, убивает их или гасит в них пламень духа. Любимцев же своих оно зовет на пир и воздвигает для них радужные мосты к заповедным островам счастья. Когда их одолевает сон, оно бережно подкладывает им под голову подушку, а если они становятся добычей печали, оно заключает их в объятия, тихо и ласково, как друг или мать, утешающая сына. Оно претворяет сумятицу жизни в великие мифы и наигрывает на громогласной арфе песнь мироздания.
Людей я вообще с детства не жаловал особенной любовью и прекрасно обходился без них, теперь же и вовсе сделал их объектом своей критики и иронии.
Я чувствовал лишь, что жизнь в один прекрасный день принесет на своих волнах и положит у моих ног какое-нибудь особенно пленительное счастье – славу или любовь, а быть может, утоление моей тоски и возвышение души.
С такою же силой поразил меня широкий морской горизонт. Вновь, как в далекие детские годы, передо мною сияла безбрежно-благоуханная синь, манящая, словно распахнутые настежь ворота. Вновь меня охватило чувство, будто я рожден не для оседлой, домашней жизни, среди людей, в городах, в квартирах, а для бродяжничества по чужим землям и скитаний по морям. Откуда-то из темных глубин моего существа всплыла старая, напоенная едкой печалью потребность броситься Богу на грудь и породнить свою маленькую жизнь с запредельным и вечным.
Кроме моих любимцев, бессонных облаков, я не знаю более прекрасного и серьезного образа тоски, символа странствий, чем плывущий далече корабль, который, становясь все меньше и меньше, наконец погружается в развернутую за горизонтом бездну.
Во Флоренции же я впервые почувствовал всю убогость и смехотворность современной культуры. Там мною впервые овладело предчувствие, что в нашем обществе я навсегда останусь чужаком; там же у меня впервые появилось желание продолжить свою жизнь вне этого общества и по возможности на юге. Здесь я находил с людьми общий язык, здесь меня на каждом шагу радовала искренняя естественность жизни, возвышаемая и облагораживаемая традициями классической истории и культуры.
Ни один серьезный, еще не окончательно сокрушенный ударами судьбы человек не способен наложить на себя руки, если ему когда-либо довелось видеть, как медленно угасает чья-то светлая, праведная жизнь.
Я вновь вспомнил вдруг, что смерть – наша умная и добрая сестра, которая знает заветный час и которой мы можем довериться в своем ожидании. Я начал также понимать, что боль и разочарования, и тоска посылаются нам не для того, чтобы сломить наш дух, лишить нас ценности и достоинства, а для того, чтобы преобразить нас и приблизить нашу зрелость.
Первые недели прошли благополучно и спокойно, затем ко мне постепенно вернулась прежняя грусть и не оставляла меня целыми днями, неделями и даже во время работы. Тому, кто не прочувствовал на себе власть тоски, не понять этого. Как мне описать это? Меня одолевало чувство жуткого одиночества. Между мною и людьми и жизнью города, площадей, домов и улиц зияла непреодолимая пропасть. Случится ли в городе несчастье, пестреют ли газеты тревожными заголовками – ко мне это не имело никакого отношения. Праздничные шествия чередовались с похоронными процессиями; шумели рынки, давались концерты – зачем? для чего? Я бросался прочь из города, бродил по лесам, по холмам и дорогам, и вокруг меня в безропотной скорби молчали луга, деревья, поля, смотрели на меня в немой мольбе и словно порывались что-то сказать, побежать мне навстречу, поприветствовать меня. Безмолвные и недвижные, они ничего не могли мне сказать, и я понимал их муки и сострадал им, ибо не мог принести им избавления.
Чем меньше ваша потребность в общении, тем сильнее вы должны принуждать себя бывать в обществе.
О Господи, неужели же все это лишь игра, случай, нарисованная картина? Разве я не боролся, не мучился, вожделея духа, дружбы, красоты, истины и любви? Разве не дымился во мне до сих пор горячий источник тоски и любви? И все это никому не нужно, все зря, все мне на муку!
Подчас я и сам удивлялся тому, что был с людьми таким злюкой и находил удовольствие в том, чтобы рычать на них.
Бесплодны и утомительны были вечные раздумья о причинах моей тоски и моего неумения жить.
Я мучительно искал ответа на вопрос, что же это за недуг или демон поселился в моем несокрушимом теле и тяжко гнетет слабеющую, задыхающуюся душу. При этом я еще и странным образом склонен был считать себя экстраординарным, в какой-то мере обделенным судьбой человеком, страдания которого никто не знает, не понимает и никогда не разделит. В этом и заключается сатанинское коварство тоски – что она делает человека не только больным, но также близоруким и самонадеянным, а то и чванливым.
Сущим наказанием было для меня говорить о литературе или искусстве. Я видел, что на эту область приходится очень мало размышлений, очень много лжи и невыразимо много болтовни.
Я сижу один, потому что мне это нравится.
Освещенное солнцем дерево, обветренный камень, животное, гора – они обладают жизнью, своей собственной историей; они живут, страдают, борются, блаженствуют, умирают, но нам этого не понять.
Многие говорят, что «любят природу». Это означает, что они не прочь время от времени вкушать ее общедоступных прелестей. Они отправляются на прогулку и радуются красоте земли, вытаптывают луга и возвращаются, не преминув нарвать целые охапки цветов, чтобы вскоре выбросить их или сунуть дома в вазу и тут же забыть про них. Так они любят природу. Они вспоминают об этой любви в погожие воскресные дни и сами умиляются своему доброму сердцу. Они могли бы и не утруждать себя, ведь «человек – это венец природы». Да уж, венец! …
Итак, я с все большим любопытством смотрел в бездну вещей. Я слышал многоголосое пение ветра в кронах деревьев, слышал грохот скачущих по ущельям ручьев и тихий плеск кротких равнинных потоков, и я знал, что все эти звуки суть Язык Бога и что понять этот густой, архипрекрасный Праязык – значит вновь обрести утерянный рай. Книги молчат об этом; лишь в Библии есть чудесное слово о «неизреченных воздыханиях» природы. Но я чувствовал, что во все времена находились люди, которые, как и я, пленившись этим непонятным, бросали свои каждодневные заботы и искали тишины, чтобы послушать песнь творения, полюбоваться полетом облаков и в неотступной тоске молитвенно протянуть руки навстречу вечному. Отшельники, кающиеся грешники и святые.
Нет на свете ничего более возвышенного и отрадного, нежели бессловесная, неутомимая, бесстрастная любовь,
Два могучих и эгоистичных пристрастия противоборствовали во мне чистой любви. Я был пьяница и нелюдим.
Вино любит меня и заманивает лишь в те пределы, где его духи вступают с моим собственным духом в дружескую беседу.
Доброе начало не бывает без конца.
Я, конечно же, знал, что зерно всякой радости и всякой доброты есть любовь и что, несмотря на свежую рану, нанесенную мне Элизабет, я должен начать всерьез любить людей. Но как? И кого?
Раньше я полагал, что это, верно, особое наслаждение – быть любимым, не отвечая взаимностью. Теперь же я узнал, как мучительно неловко бывает перед лицом предлагаемой любви, которая не рождает ответного чувства. И все же я испытывал легкую гордость от того, что меня любит и желает стать моей женой чужая женщина. Уже одно лишь это маленькое проявление тщеславия означало для меня большой шаг к исцелению.
Мне все сильнее верилось, что это возможно и даже легко – примирившись с судьбой, еще успеть отведать того или иного лакомства на пиру жизни.
чувствовал я, как отдаляется от меня молодость и близится пора зрелости, когда обретаешь способность рассматривать жизнь как короткий переход, а себя самого как странника, чьи пути и чье исчезновение не прибавят в этом мире ни радости, ни печали. Ты стараешься не терять из вида свою жизненную цель, лелеешь свою заветную мечту, но уже не кажешься себе чем-то незаменимым в этой жизни и все чаще позволяешь себе передышку в пути, не мучаясь более угрызениями совести о несостоявшемся дневном марше, ложишься в траву, насвистываешь незатейливую песенку и радуешься прелести бытия без всяких задних мыслей.
Теперь же я постепенно все отчетливее видел, что неизменных границ нет, что бытие слабых, угнетенных и бедных не только так же многообразно, но чаще еще и теплее, истиннее и примернее, чем бытие избранных и блистательных.
Я по-прежнему относился к женщинам с некоторым недоверием, будто опасаясь, что они испытывают злорадство при виде безнадежных мук влюбленных в них мужчин.
Мы не боги и не создали сами себя, но суть лишь дети и отдельные части Земли и Космоса.
Подобно песням поэтов и ночным сновидениям, реки и моря, плывущие в лазури облака и бури, тоже суть символы и носители тоски, которая распростерла свои крылья меж небом и землей и цель которой – непоколебимая уверенность в гражданских правах и в бессмертии всего живого. Сокровеннейшая суть всякого творения знает эти свои права, знает о своем близком родстве с Богом и бесстрашно покоится в объятиях вечности. Все же дурное, болезненное, порочное, что мы носим в себе, упорствует и верит в смерть.
До этого я воспринимал людей как одно целое и в сущности нечто чуждое мне. Теперь же мне открылось, как выгодно – знать и изучать не какое-то абстрактное человечество, а отдельных, конкретных людей, и мои записные книжечки, равно как и моя память, стали заполняться совершенно новыми картинами.
Наблюдать за волнами или облаками было куда приятнее, нежели изучать людей. Я с удивлением заметил, что человек отличается от других явлений природы своею скользкой, студенистой оболочкой лжи, которая служит ему защитой. Вскоре я установил наличие этой оболочки у всех моих знакомых – результат того обстоятельства, что каждый испытывает потребность явить собою некую личность, некую четкую фигуру, хотя никто не знает своей истинной сути. Со странным чувством обнаружил я это и в себе самом и навсегда отказался от своих попыток добраться до самого ядра души того или иного человека. Для большинства людей оболочка была гораздо важнее того, что она скрывала. Я мог наблюдать ее даже у детей, которые совершенно непосредственному, инстинктивному самовыражению всегда осознанно или неосознанно предпочитают разыгрывание какой-либо роли.
Новая любовь оказалась все же сильнее своих старших сестер. Она была тише, застенчивей и благодарней.
И мы, считавшие себя славными, добросердечными людьми, – мы заперли его на ключ и ушли гулять! И мы веселились, забавлялись с детьми, радовались ласковому, золотому осеннему солнцу, и никому не было совестно, ни у кого не сжалось сердце при мысли о том, что мы оставили калеку одного в доме! Мы даже рады были, что освободились от него хоть ненадолго, и, предавшись чувству облегчения, жадно вдыхали прозрачный, теплый воздух и являли собой отрадное зрелище милого и благочестивого семейства, которое с пониманием и благодарностью принимает Господень день.
Я почувствовал себя так, будто меня поставили перед чистым, неподкупным зеркалом и я увидел себя в нем лжецом, болтуном, трусом и клятвопреступником. Это было больно, это было мучительно и ужасно, но то, что в это мгновение разрушалось во мне, содрогалось и корчилось от боли, было достойно разрушения и гибели.
Так уж устроен наш мир: серьезные события и глубокие душевные переживания часто соседствуют с комическим.
Все те мелкие пороки, которыми мы портим и отравляем нашу прекрасную, короткую жизнь – гнев, нетерпение, подозрительность, ложь, – весь этот зловонный гной, разъедающий и искажающий наш облик, был в этом человеке выпарен, как соль, на медленном огне продолжительного и глубокого страдания. Он не был ни ангелом, ни мудрецом, он был человеком, исполненным житейской мудрости и смирения, человеком, которого великие страдания и лишения научили без стыда принимать свою слабость и предавать себя во власть Всевышнего.
–... Между мной и моей болезнью идет постоянная война. То я выиграю сражение, то она меня снова одолеет – так и барахтаемся все время, а иногда и притихнем оба, заключим перемирие, затаимся и не спускаем друг с друга глаз, пока один из нас опять не бросится на противника, и все начинается сначала.
Старая любовь все еще горела во мне, но это был уже не сверкающий фейерверк, а ровное, надежное пламя, которое не дает состариться сердцу и над которым иногда, зимними вечерами, старый безнадежный холостяк может погреть озябшие руки.
Право, жизнь дается лишь один раз, и не стоит самим портить себе это удовольствие.
Вот что значит любить. Любовь приносит страдания, и в последовавшие за этим дни у меня не было в них недостатка. Впрочем, какое это имеет значение, страдаешь ты или нет! Лишь бы можно было чувствовать рядом мощное биение другой жизни и ощущать тесные, животрепещущие узы, которыми связано с нами все живое, лишь бы не остывала любовь! Я отдал бы все светлые дни, прожитые мною когда-либо, вместе со всеми влюбленностями и всеми поэтическими мечтами в придачу, если бы за это мне дано было еще раз заглянуть в святая святых, как в то славное время. И хотя глазам и сердцу при этом невыносимо больно, да и гордости и самомнению достается по заслугам, зато после наступает такая тишина, нисходит такое смирение, а в недрах души рождается истинная зрелость и новая жизнь!
Нет ничего тяжелее, чем умирать, даже самая непосильная работа легче смерти. А человек все же как-то умудряется выдержать это.
Такого неба, о каком говорит священник, вовсе нет. Небо гораздо красивее. Гораздо красивее.
Я так основательно прочувствовал разлуку и расставание во время болезни, что теперь от этих ощущений ничего не осталось, и предназначенная мне чаша боли, пустая и невесомая, вновь медленно поднялась вверх.
В конце концов нельзя же требовать от старого, заскорузлого крестьянина, который и в лучшие свои годы никогда не был зерцалом добродетели, чтобы он на склоне жизни, одолеваемый старческими недугами, смягчился и в умилении взирал на подвиги сыновней любви.
Часто мне казалось, будто Элизабет стоит прямо передо мной, улыбается мне и всякий раз, как только я делаю шаг ей навстречу, отступает назад. Мысли мои, куда бы они ни уносились, неизменно возвращались назад к этому образу; я уподобился больному, руки которого вопреки рассудку непрестанно тянутся к зудящему нарыву и расчесывают кожу до крови. Я сам себя стыдился, что было так же мучительно, как и бесполезно;
Я понял, что против этой болезни еще не придумано лекарства, и попытался хотя бы немного поработать.
Рыбе не жить без воды, а крестьянину без деревни, и никакие науки не сделают из нимиконского Каменцинда городского, светского человека.
322,6K silmarilion128928 января 2011 г.
silmarilion128928 января 2011 г.Чем меньше ваша потребность в общении, тем сильнее вы должны принуждать себя бывать в обществе.
252,1K
Подборки с этой книгой

Эксклюзивная классика

- 1 386 книг

Азбука-классика (pocket-book)

- 2 451 книга

Советуем с какой книги начать чтение

- 246 книг

Дебют известных и знаменитых писателей

- 3 011 книг

Книга на все времена

- 1 167 книг
Другие издания