
Электронная
540 ₽432 ₽
Это бета-версия LiveLib. Сейчас доступна часть функций, остальные из основной версии будут добавляться постепенно.

 Ваша оценка
Ваша оценкаЖанры
 Ваша оценка
Ваша оценка
Единственное, что здесь можно (более-менее) читать - самое начало, тот отрывок, когда женщина ходит-совокупляется со всеми подряд... Впрочем, и эти сцены написаны не намного лучше, чем в многочисленных книжечках и статейках в газетах, типа СПИД-инфо и т.д., множественно выходивших у нас в самом конце 1980-х годов. Ну и элементы обязательного общегуманитарно-общеевропейского пафоса присутствуют (как же без них -во всём виноваты, мол, ядерные испытания сверхдержав и тд и тп)...
А, ещё не менее пафосный подзаголовок: "научный роман" здесь имеется...
Но общую ситуацию всё это не спасает...
То есть общая ситуация настолько уныла, что читать это не только не интересно, но и совсем не интересно, а так же глупо, напыщенно, болтологично, пафосно, натянуто... притянуто... оттянуто и утянуто..))
По хорошему я бы пару ему поставил, но уж в честь новогодних праздников пусть уж будет то, что как бы есть...

В третьей книге не было той загадочной необычности, как в первой. Здесь присутствовала своя нестандартность, но она явно совсем не увлекательная. Даже больше, все эти моменты я под конец пропускал, поскольку они затягивались не на одну страницу и не влияли на саму историю. Речь идет о перечислении дат рождения и смерти сотен людей, родившихся в тысячу девятсот шестдесят втором году. И это перечисление происходило постепенно практически в каждой главе, и порой занимало огромную часть той же главы. Да, это несомненно очень необычно, но и так же несомненно совсем не интересно. Научного романа тут так же мало, как и истории любви, и криминальной драмы в предыдущих книгах. Есть определенное направление в научную сторону, однако оно довольно мало. Не знаю, на что тут автор потратил так много времени, наверное, он просто начинал писать продолжение спустя десяток лет, и в итоге вышло,что трилогия писалась так долго. А на деле, возможно, среди двадцати лет, потрачено всего три. Да и книги довольно небольшие. Особенно эта, если учесть все эти длинные списки умерших. В общем первая книга цикла оказалась самой увлекательной, благодаря своей любопытной необычности. Остальные же, тоже нестандартны, но с каждой последующей книгой их необычность становилась менее интересной.
Оценка 7 из 10

Книги Сьона я воспринимаю как награду самой себе за что-то сложное и важное. Я их приберегаю в качестве индивидуального приза и стараюсь не читать всуе, между забором и обедом. Это книги, чтению которых я должна отдать всю себя, как бы пафосно это не звучало. Мне нравится его манера перечислений, вслед за которыми читатель волен строить цепочки собственных ассоциаций и воскрешать череду собственных воспоминаний о чем угодно и, может быть, поэтому мне так нравится Сьон: он скользит себе по волнам своих мыслей, не очень-то и заботясь о читателе, а ты, держась за его легкие одежды, как ребенок вслед за взрослым на катке, движешься то вслед за ним, как за навигатором, то уплываешь в сторону своих фантазий, сосредоточиваясь на чем-то личном.
Его чтение – игра, постмодернистский квест, похожий на блуждание с фонариком по сумеречному лабиринту пещеры, где мерцают огоньки осознанности и понимания, но в темноте поджидают неясности и загадки, требующие не просто интеллектуального, а экзистенциального поиска, и это - довольно своеобразное чувство при чтении, вообще достигаемое очень нечасто. В этом есть что-то сновидческое, даже слегка пограничное, но одновременно волшебное, как откровение, создающее иллюзию взаимодействия даже не двух сознаний, а двух бессознательных, звучащих в унисон. Пожалуй, у других авторов я редко встречала такую возможность (может быть, у М. Бандо, А. Коэна или С. Нотебоома) и настолько изящную смесь исторического и личного, культурного и вымышленного, эстетического и интеллектуального, мифологического и телесного. Сьон – это всегда сложенная из вполне понятных слов и фраз пирамида не всегда распаковывающихся смыслов. Поскольку все слегка зыбко, неотчетливо, роман требует от читателя не просто чтения, а соучастия-сопереживания, ничем не скованного додумывания, привнесения себя в авторскую конструкцию. Эффект рождается в достигнутом взаимодействии или не рождается совсем: это чтение похоже на парейдолию - на то, как в рисунке обоев, облаков, листвы вдруг проглядывает образ, являющийся только тебе и легко рассыпающийся, если его не удерживать и не достраивать деталями. Такие гештальты всегда обладают какой-то особенной смысловой и эмоциональной ценностью для личности: почему именно тебе явилось именно это именно сейчас и именно здесь? Почему именно тебе удается такое сложное умение увидеть за одной явленностью мира нечто совершенно иное?
Мне было интересно войти в спящую, а точнее, проснувшуюся, дверь и наблюдать, как складывается жизнь из того, что герой помнит о ней, и из того, что он хочет, чтобы о ней помнилось. Мне было интересно улетать вслед за авторскими ассоциациями в чужую жизнь (в каком-то фрагменте он и себя включил в воспоминания героя). Мне понравился даже обрыв повествования и послесловие к нему, от которого повеяло чем-то уже совершенно постпостмодернистским. Я в восторге от языковой и смысловой игры и даже построения этого романа (пожалуй, только «мортирологические» вставки казались пугающе странными). Не уверена, что эту своеобразную поэтику памяти можно смело рекомендовать кому-то еще, но лично я получила полнейшее удовольствие и – редкий случай – даже готова перечитать эту книгу еще раз, не говоря уже о выписанных из нее цитатах.

, и мысли возвращаются ко мне в виде ярких вспышек – будто из глубинных ущелий сквозь черную как ночь толщу океана поднимается отблеск от светящегося тела гигантского кальмара. Эти вспышки молниеносны, и необходим особый навык, чтобы их увидеть и услышать, врожденная хитрость и сила духа, чтобы их уловить и удержать в сознании, терпение и ловкость ума, чтобы в них разобраться.

Человек представляет собой совокупность времен (которые он пережил и свидетелем или участником которых стал — как добровольно, так и вынужденно), мечтаний и мыслей (как своих, так и чужих), деяний (как совершенных им самим, так и другими — как друзьями, так и врагами), рассказов о случившемся с ним (как в дальних странах, так и в соседней комнате — как сохранившихся в памяти, так и забытых). И каждый раз, когда событие или идея затрагивает его, влияет на его существование, сотрясает как его маленькое бытие, так и большой мир вокруг, прибавляется кирпичик в то сооружение, которым он сам станет в конечном итоге, — будь то городская площадь или набережная, мост или пивоварня, вагончик дорожных рабочих или сторожевая башня, дворец или университет, лагерь для военнопленных или аэродром. Истинные очертания и размеры этого сооружения, или, другими словами, — роли человека в обществе, раскроются лишь после того, как он умрет и будет похоронен. Да, его формирование полностью завершится именно тогда, когда от него не останется ничего, кроме развалин, кроме угасающего отблеска в памяти людей, кроме случайных фотографий в альбомах родственников и друзей, нескольких работ, выполненных его собственными руками, каких-то личных вещей, разбросанных по разным домам, вороха повседневной и праздничной одежды, имени и номера социального страхования, всплывающих в разных архивных записях, справки о смерти и некролога в пожелтевшей газете, а также когда это сооружение уже невозможно будет восстановить...

Я был тихим ребенком. Я был ребенком, который стоял рядом, когда другие дети играли, ребенком, который молча ждал, пока другие боролись за задние места в автобусе во время школьных экскурсий, лезли без очереди к качелям, протискивались к столу с шоколадным тортом. Я был ребенком, который никогда первым не заговаривал — ни с детьми, ни со взрослыми, ни с нянечкой в детском саду, чтобы пожаловаться на промокшие ноги, ни с мальчишкой, сидевшим рядом в кинотеатре и вылившим на мои колени целую бутылку газировки, ни с почтальоном, когда у него из сумки выпадало на тротуар письмо, ни с малышом, стоявшим под козырьком крыши в тот момент, когда вниз по шиферу съезжал слежавшийся снег. Я был ребенком, который на любое обращение отвечал кивком или покачиванием головы, в крайнем случае, когда отмолчаться было нельзя, невнятно бормотал себе под нос: «Не знаю». Я был беззвучным ребенком, игравшим в одиночестве в дальнем углу детской площадки и сидевшим за последней партой, в ряду, ближайшем к выходу из класса. Я был ребенком, который никогда не предлагал себя на роль принца в школьной постановке о спящей красавице и не поднимал руку, когда нужно было украшать классную доску к Рождеству. Я был ребенком, который никогда громко не смеялся и не плакал вблизи незнакомцев. Я был невзрачным ребенком, которого не замечали взрослые, разговаривая с моим отцом на улице, и которого никогда не обсуждали между собой другие дети. Я был ребенком, имя которого не могли вспомнить, когда просматривали старые фотографии.



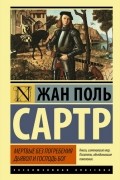














Другие издания
