
Женские мемуары

- 911 книг

 Ваша оценка
Ваша оценкаЖанры
 Ваша оценка
Ваша оценка
Воспоминания "гражданских" участников войн (тех, кто непосредственно в боевых действиях не был, но хлебнул их последствий полной мерой) всегда тяжело читать - невольно примеряешь на себя, а как бы я, если бы вот так... А тут ещё и история начинается в моем родном Петербурге, тогда Ленинграде, точнее в тогдашнем его пригороде - Стрельне. Отсюда автора угонят на работы в Германию, где она будет, несмотря ни на что, вести свой дневник.
Не знаю, была ли литературная обработка текста, но у автора несомненный талант описывать даже самые страшные события так, что не хочется в ужасе захлопнуть книгу и больше никогда к ней не возвращаться. Да, много раз пробирало до слез, да, понятно что скорее всего "многое осталось за кадром", но с автором хотелось и дальше идти через дни, месяцы и годы, в которых находится место и забавному, и серьезному, и нежному. Жаль, конечно, что упомянутые на страницах люди ничего о себе не рассказали (или эти свидетельства остались только в семейных архивах), но хорошо что о них повествует автор, а значит они все же остались в истории.
Больше всего, пожалуй, меня в книге поразила вот эта цитата:
Представляете, молодую девушку угнали на чужбину, заставляют день и ночь работать, относятся, допустим, не как к скотине, но и отнюдь не как к человеку, но она не винит Родину что ее не защитила - она просит у нее прощения!!! Если это не высшее проявление патриотизма, то что же это.

Это память о перенесенных страданиях. Вере было 17 лет, когда Стрельну оккупировали фашисты. А в 1942 году угнали вместе с мамой в Германию. На протяжении трех лет Вера вела дневник на грубых бумажных кулях из-под удобрений.
Плакала, пока читала. Несмотря на то, что книга незамысловатая, это, с моей точки зрения отличное лекарство от беспамятства.

Когда берешь в руки этот дневник, сначала даже не верится, что эти страницы пережили войну. Вера Фролова начала вести записи в семнадцать лет — совсем девочка, угнанная в Германию из родной Стрельны под Ленинградом. Но сколько в этих строчках взрослой боли, мудрости и... удивительной жизнестойкости.
Читать тяжело. Не потому что описаны зверства, а потому что перед тобой не сухие исторические факты, а живая девушка с ее страхами, мечтами, первыми чувствами. Вот она пишет о подруге Нюре: "Где ты сейчас? Жива ли?" — и сердце сжимается. А вот — о военнопленном Леониде, в которого тайно влюблена. И между строк — постоянный страх: за мать, за себя, за то, что на Родине их уже считают предателями.
Особенно цепляют бытовые детали. Как они работали по 12 часов в поле, а надсмотрщик орал "Лось!" (это значит "Давай!"). Как прятали клочки бумаги, на которых велись записи. Как мечтали о куске нормального хлеба — не того, что с опилками. И как, несмотря ни на что, находили в себе силы шутить, поддерживать друг друга, даже устраивали тайные "вечеринки" в бараке.
После прочтения долго не можешь прийти в себя. Понимаешь, что знал о войне далеко не все. Что кроме фронта и блокады были тысячи таких же Вер — молодых, испуганных, но не сломленных. И самое страшное — многие из них, вернувшись домой, снова стали "врагами" уже для своей страны...
Эта книга — не просто воспоминания. Это памятник. Памятник всем, кого война лишила юности, но не смогла лишить человечности. Читать больно, но необходимо. Чтобы помнить. Чтобы ценить. Чтобы такого больше никогда не повторилось.

Ну, почему, если два человека встречаются, если им нравится общество друг друга, если у них всегда находятся общие темы для разговоров и почти постоянно общность взглядов и суждений, – почему надо во всем выискивать какие-то скрытные мотивы, в чем-то подозревать. Почему?

И конечно же, я никогда не забуду тебя, Джонни. За последнее время я ни разу не упомянула здесь твое имя, но, поверь мне, никогда и не забывала тебя. Никогда. Ни на минуту, ни на секунду даже… Как бы ни сложилась в дальнейшем моя жизнь – а я очень надеюсь, что она сложится все же не слишком плохо, – в моем сердце навсегда останется нетронутый, потаенный крохотный уголок, где будешь жить ты, Джон. Только ты… Сохранишь ли и ты – и надолго ли? – в своем сердце память обо мне?
Теперь я точно знаю, Джонни, – мы никогда больше не встретимся и не увидимся с тобой, никогда… Ты не сумеешь, даже если и захочешь, разыскать меня, ведь это только принято говорить, что мир тесен. Он так огромен, а людской океан так безбрежен, что две человеческие жизни в нем – как две затерявшиеся в водовороте судеб крохотные песчинки… Мы не увидимся больше с тобой, но я хочу, я очень хочу, Джон, чтобы ты был счастлив в жизни, и мне немножко грустно, горько и больно сознавать, что это счастье сложится у тебя не со мной… К сожалению, у меня ничего не осталось на память о тебе. Тот патефон, что ты подарил мне прошлогодним октябрьским вечером, который я намеревалась взять с собой, в дорогу, Шмидт вышвырнул с воза еще там, в Грозз-Кребсе, а твой последний подарок – губную гармошку-двухрядку – я в первый же день нашего освобождения отдала русскому солдату, кстати, твоему российскому тезке – Ивану.
Так уж получилось. Прости.
У меня нет твоей фотографии, Джон. А у тебя – нет моей. Как жаль! Грустно и обидно знать, что постепенно безжалостное время сотрет и в твоей, и в моей памяти знакомые, дорогие сердцу черты, и останутся лишь только одни воспоминания. Как жаль…
Близится рассвет. За окном – синий полумрак. В неясной, печальной мгле проплывают то слабые очертания деревьев, то редкие силуэты полуразрушенных либо вконец разрушенных строений, то задранный в темное еще небо колодезный журавль, то одинокая покосившаяся хата с тускло мерцающим огоньком в окне, и еще опустошенные, побитые беспощадной войной поля, поля, поля – без конца и без края… Милая моя Россия. Бедная моя Россия. Несчастная моя Россия. Вечно любимая моя Россия…
Пыльная лампочка под потолком почему-то принялась мигать – то разгорится вдруг ярко, то словно бы совсем гаснет. Устала от моей писанины? Подаренный мне паном Тадеушем карандаш тоже, видно, притомился – весь истончился, не хочет больше служить мне. Да и тетрадь, кстати, уже заканчивается. Моя последняя тетрадь…
Итак, я еду домой. «В Россию, в Россию, в Россию!» – стучат, погромыхивая на стыках рельсов, колеса. «В Россию, в Россию, в Россию!» – поет, и ликует, и грустит, и радуется мое сердце. Здравствуй же, моя светлая Родина! Моя самая любимая, самая желанная, самая прекрасная на свете, Российская земля – здравствуй.

Да. Достаточно хорошо. А что еще знаю я о Шмидте? Что он хитер и умен, что он жаден и скуп, а также что он нечистоплотен и похотлив в личной жизни. Как истый нацист, он уверен в собственной исключительности и вседозволенности и не признаёт никаких прав и достоинств за другими людьми – неарийцами.
А что я знаю о Кларе? Что могу сказать о ней? Пожалуй, очень немногое. Для этой избалованной, вздорной, кокетливой девицы совершенно безразличны все мировые дела и проблемы. У нее одна забота – найти бы только состоятельного – непременно состоятельного! – мужа, да устроить себе красивую, обеспеченную жизнь. Вот и все ее стремления.
Линда? Ну, эта «немка из народа» нигде не пропадет – ни при каком режиме, ни при каком правительстве, ни при какой власти. Она чутко держит нос по ветру и действует как раз сообразно тому, откуда этот ветер дует. По ее поведению и отношению к нам, «восточникам», мы уже научились безошибочно угадывать о положении на фронтах. Случилась, положим, какая-то неувязка у фрицев, понесли они где-то большие потери – и Линду не узнать: доброжелательна, приветлива к каждому из нас, разговаривает с нами только по-польски, а если в это время у нас случается конфликт с паном – его ругает и осуждает (конечно же, за глаза), а нам сочувствует, умиляется нашей стойкостью.
Но вот Линда ходит по двору напыщенно-важная, неприступно-гордая. Обратись к ней в этот момент по-польски – и она недоуменно поднимет брови, состроит непонимающую мину и ответит тебе только на немецком. Это значит, что где-то неудача постигла советские войска, а немцы одержали победу… Вот такой хамелеон, такой флюгер эта фольксдейтчиха Линда, личность, в общем-то, малопривлекательная.
Ну а молчаливый, постоянно красноносый Гельб с его толстой добродушной супругой, их дети – Анхен и Генрих? Что я, что мы все знаем о них? То, что они всегда приветливы к нам, что понимают наше душевное смятение и неустроенность и даже стараются как-то помочь нам, облегчить нашу участь, – иначе зачем бы пускали в свой дом и даже приглашали неоднократно слушать радиопередачи. Мы знаем также, что они добры и бескорыстны – делятся с нами всем, чем могут, не требуя и не ожидая ничего взамен. А какова их другая, потайная жизнь? Какие планы, мечты и надежды лелеют они в это смутное, страшное, кровавое время? Ведь думают же они о чем-то, чего-то ждут, на что-то надеются? На что же?
Да, как гласит русская пословица – «чужая душа – потемки». Чем больше накручиваются годы, тем лучше доходит до меня смысл этой пословицы. И еще я теперь понимаю: нельзя быть такой категоричной, какой была до недавних пор: если немец – значит враг, значит и относиться к нему следует только как к врагу. А ведь и среди них, немцев, есть близкие нам по духу люди, и примером тому – Маковский, семейство Гельб, даже в какой-то степени Клееманн…






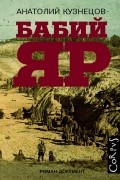

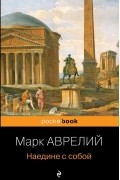




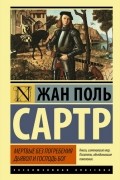


Другие издания

