Интеллектуальная литература от издательства «Носорог»

- 35 книг

 Ваша оценка
Ваша оценка Ваша оценка
Ваша оценка
Вы никогда не задумывались о том, что страдаете лунатизмом, но не знаете об этом?
Мне иногда кажется, что все в этом мире — лунатики. И даже сам мир — лунатик.
И страшно порой окликнуть его на карнизе красоты или истины — сорвётся… в войны и катастрофы, землетрясения.
Ах, как часто мы окликаем не вовремя любовь, дружбу… и они тоже, срываются, в миге от бездны и неба: миг… и шагнуть в лазурь. Дружба срывается в любовь, а любовь... она словно всегда летит куда-то и падает.
Мои письма к любимой женщине, тоже страдают лунатизмом: им не спится по ночам и они, не помня себя… блуждают по паркам, безлюдным переулочкам; иногда такое письмо-лунатик, с нежным стихом, приходит не к любимой, а к моей близкой подруге.
Однажды я стоял ночью на крыше, у бездны: от неразделённой любви желая покончить с собой.
С грустной улыбкой я заметил рядом с собой на карнизе, бледно-сизый цветок.
Он пророс у самой бездны. Мне тогда подумалось, что он тоже, хочет покончить с собой, что он тоже — лунатик.
Так цветок спас мне жизнь: той ночью я читал ему свои стихи, а он внимательно слушал, слегка покачиваясь на ветру, словно грустный ангел.
Не так давно, в букинисте, я встретил книгу-лунатика: Таинства игры.
Она была не в мемуарах, и даже не на полочке с поэзией.
Бог весть каким образом она попала к книгам по математике и квантовой физике.
Она лежала сверху них и привлекла мой взор своей бледно-лазурной обложкой: так порой над серыми крышами домов утром всходит… синева.
Да-да, не солнце, а робкая синева, так что кажется, солнце стало синевой, что-то удивительное случилось этой ночью, и потому утром взошло не солнце, а сразу — небо и рай.
На книге было имя женщины — Аделаида Герцык, и фотография её с маленьким ребёнком.
Я знал о ней немного: очень близкая подруга Цветаевой, которая посвятила ей свой сборник стихов «Волшебный фонарь», сделав надпись: «Моей волшебной Аделаиде».
Именно в московском доме этой удивительной женщины, Марина познакомилась с Софьей Парнок, близкой и нежной подругой самой Аделаиды.
Уже позже, я окунулся сердцем… нет, упал сердцем, в жизнь и творчество Аделаиды.
Это какое то чудо и безумие: чудо — жизнь и творчество Аделаиды, этой грешной-святой от поэзии.
А безумие — что об этом чуде никто не знает. Никто не знает о её гениальной повести «Неразумная». На лл есть много читателей и отзывов на пошлейшие и глупейшие книги прошлого и настоящего, но повесть Аделаиды — словно в одиночестве.
Это тоже безумно до грусти, как если бы в Дрезденском музее висела картина Рафаэля — Мадонна с младенцем, но мимо неё проходили, не замечая. Словно.. её могут увидеть только чистые сердцем.
И вот у неё порой останавливаются дети, парочка влюблённых, сумасшедший… охранник ночью, с фонариком и блаженной улыбкой на лице.
Достоевский однажды сказал, что если бы кончился мир и человечество предстало бы пред богом, то, склонившись на колени, оно протянуло бы ему книгу — Дон Кихот, кротко промолвив: так мы поняли эту жизнь…
Знаете… после этой повести, нежно-нелепыми и детскими кажутся многие мировые шедевры.
Если бы бог был… то женщина, да, именно женщина, протянула бы ему эту повесть Аделаиды Герцык, сказав,
Что таков наш путь к богу, человеку, искусству и истине…
Мне иногда кажется, что ангелы существуют.
Нет, они не с сияющими крыльями… но иногда они тайно участвуют в красоте природы и творчестве.
В светлом шелесте перелистываемых страниц «Каренины» Толстого, «Идиота» Достоевского и «Русалочки» Андерсена, есть что-то от реющего крыла ангела, цедящего синеву сквозь крыло.
С такой книгой как у Аделаиды, хочется уйти подальше от людей, за город, в вечереющий лес, и пожить вместе с нею и зверями милыми, наедине.
Лечь с нею в прохладную траву, обняв, и заснуть с блаженной улыбкой.
А через несколько дней, чуть не сошедшая с ума от переживаний, любимая женщина, спросит: где ты был?
И ты грустно улыбнёшься… выдерживая паузу, протянешь руку и шёпотом заговорщика, прошепчешь: ты правда хочешь это знать? Тогда пошли со мной…
И вот вы идёте за город. Сумерки, звёзды цедятся сквозь шелест листвы…
Любимый человек на миг остановился возле тёмного леса: Саш… а куда мы идём? Мне страшно. Слышишь, кто-то воет в лесу…
И вот мы входим в лес. Сумерки слегка снежатся…(хорошо вышло… 3 «с» подряд с долгим карим «е», словно лунатики-снежинки мерцают в темноте) посреди жёлтой листвы и травы, лежит сизая книга Аделаиды Герцык: она играет со снегом и тихо опадающей листвой, словно с детьми.
В этот день мне хочется много нежного сказать об Аделаиде и о её удивительной повести.
Аделаида в детстве была удивительной девочкой и играла в странные игры… с душой и богом.
Она вспоминала потом, что есть дети, играющие в нормальные, словно бы солнечные игры, а есть иные дети, словно грустные цветы в вечной тени забора: там теневые игры и вечное томление по свету, как чуду.
Маленькая Адель словно витала сердцем в облаках.
Однажды, на Святую Троицу, она очаровалась зелёными веточками берёз на полу в гостиной — весна, словно бог, тихо вошла в дом…
Для неё это было так безумно, блаженно.. как поэзия. Мама попросила её и младшую сестрёнку помочь достать сахар для торта и Адель уронила, просыпала сахар на пол.
И это тоже было так таинственно и странно.. и словно тоже как то связано с богом и праздником.
Адель улыбнулась и сказала сестрёнке, что так нужно, как и веточки берёз.
И с тех пор она и сестрёнка на Троицу, скрывались в подвал и там рассыпали сахар: это была их игра, обряд детства.
Игрой было для Ады мечтание, что она в средневековом монастыре, и её наказывают за что то.
Подросток ещё, она тихо поднималась с постели ночью, раздевалась до гола и ложилась на холодный пол, и смотрела, смотрела через потолок, на незримые звёзды, незримого бога…
Этот мотив «игры» стал лейтмотивом жизни Ады, её тайной мукой и раздвоением души: всё есть игра — и искусство, и религия, и дружба и любовь. И в этой игре происходит общение с душой и богом. И ещё с кем-то…
Но эта игра мучила Аду. Дионистический мотив игры стремится заслонить, заместить собой мир.
Словно ребёнок-арлекин, он ещё не понимает в каком мире он живёт — тлеющим без бога и истины, любви.
Потому игра искушает поклониться себе, как высшей реальности, где нет боли и печали: вокруг войны, гибнут дети и распинаются боги, а душа-ребёнок играет во что-то.. с таинственным незнакомцем, улыбающимся демоном, и не замечает безумия, которое приближается к нему.
К слову, в этом плане Адель близка к поэтике Андрея Платонова. У него встречается образ гибели Христа-младенца в безумном мире людей, живущих чем угодно — разумом, идеалами достатка и сытости, но не любовью.
Когда Ада была маленькой, ей хотелось взять мир, его хрупкую красоту, под охрану, от убивающих её взглядов взрослых.
Она в игре словно возвращала миру его утраченный смысл.
Но это Донкихотство вело её душу к бездне.
Да, давало крылья души, но они всё чаще бились в сияющей пустоте, и нравственное начало в ней, жизнь духа, словно ребёнок, оставалось в забвении и зарастало тернием.
Ада мучается выбором между жизнью и игрой. Выходит замуж за хорошего и милого, но совершенно чуждого ей человека. Пишет стихи, ходит в маленькую церковку в лесу.. но понимает, что это тоже, не то. И стихи, и брак, и церковка. Её жизнь тихо идёт в пустоту, словно русалочка, она хочет сказать себе и жизни что то главное, но не может.
Её мучает экзистенциальное чувство вины. Так где же любовь? Без неё душа на земле умирает ещё при жизни…
Строка из её стиха: Заросла тропа моя к богу…
На страну обрушивается морок революции. Тоже, своего рода игра, тьмы в людях и надежды, разума и безумия.
Аду сажают в тюрьму, мытарят там пару месяцев, она видит расстрел матери и ребёнка… и затем её выпускают… за её же стихи: следователь оказался поклонником поэзии.
Она живёт впроголодь со своими двумя детьми в Крыму, носит со старшим сыночком одну рваную обувь на двоих.
Любопытно, что этот мотив Золушки, словно бы зло повторился в жизни, ибо написан он был ещё в её повести. Более того, в повести отразилось множество сказок, и в этом плане это метаповесть: Русалочка, Спящая красавица, Крысолов, Красная шапочка и т.д.
Странное дело: когда жизнь рухнула, дом забрали и существование сквозится синевой, словно осенняя листва, Ада наконец-то понимает что-то главное в жизни: примирение игры с жизнью, творчества с богом.
Маленький сын умирает от голода и вечером, перед сном, шепчет матери: мамочка… дай мне поесть, или убей.
Похоже на диалоги из рассказов Платонова…
Разве тут до стихов? После таких слов, смешно и стыдно и писать самому и читать Достоевского, Пушкина, с его милыми трагедиями.
Хотя и в этом аде, Адель пишет стихи, на краешке стола, готовя детям еду.. из рациона святых, или птичек небесных.
Стих сыну:
И ещё, таинственный и пронзительный стих, важный для понимания повести «Неразумная».
Удивительный стих, чем-то напоминающий апокалиптический конец поэмы Перси Шелли «Лаон и Цитна».
Мать и сын за рекой смерти, смотрят на грустный мир взором души.. из стиха Тютчева Она сидела на полу и груду писем разбирала.
А вообще стих и сама повесть, чем-то смутно напоминают нежнейший в своей трагичности апокриф Маленького принца Экзюпери: мать с сыном на далёкой и тихой планете, и роза, и зверёк, и никого больше… ни горя, ни смерти.
Сын Аделаиды — Даля, вырастет удивительным человеком, в душе которого продолжится мука души и игры матери.
Он будет писать стихи, увлечётся музыкой чисел математики, трепетно, по заросшей тропе к богу, сердце будет влечься в лабиринты тайн мира, и не важно, сумеречная ли это путаница леса, строчек стихов, сплетённых рук любимой в ночи на его шее, груди…
Далю расстреляют в 27 лет (в 1938 г), в день рожденья мамы, уже умершей к этому времени.
В отношении повести, это тем более пронзительно, что в ней ребёнок героини падает со стола (образ Голгофы), на котором мать оставила его, проведя до этого по расставленным на полу стульям, словно через мост с бездной, но увлекается игрой, оставляя сына наедине с игрой и душой.
Ребёнок падает в бездну и разбивает голову в кровь: предчувствие расстрела сына?
Читая письма Дали незадолго до смерти (как чудно рифмуются имена матери и сына! Адель и Далик… словно он — её душа, словно в стихе Ады о реке на том свете, у ног женщины — ребёнок-душа), словно подсматриваешь сны уже умершей к этому времени Адель.
Далик словно продолжает метания матери в безумном мире, где бог молчит и говорит тьма: «Скажи, успокой меня, есть ещё ангелы?»
Безмерная душа, мечется в мире мер, скитается босиком по крымским горам и ночным лесам.. словно душа неприкаянная, словно желая этим быть ближе к умершей матери: в её повести она мечтала с сыночком сбежать ото всех: от семьи, безумного мира… и даже — себя.
Она желала сесть на поезд и уехать куда глаза глядят и выйти на полустанке где лишь ветер и лес шелестит вечерней синевой, и уйти дальше, дальше, затеряться в природе, словно в душе и боге.
Вы представляете себе это апокрифическое художественное чудо, как Анна Каренина похищает сына ночью и убегает с ним, садится в поезд и едет… выходит ночью в поле. В звёзды выходит. В пустоту, словно в открытый космос.
Её не отпускает смятение души и вина. В итоге она кончает с собой… вместе с ребёнком бросаясь под поезд.
Этого нет в повести, но медеевы тени, нарастают словно в аду, протягиваясь к ребёнку со всех сторон, словно в детстве к кроватке — тени от ветвей на осеннем ветру.
Далик пишет в дневнике: Природа — самое лучшее, что есть на свете. Загробный мир мне представляется в виде природы и леса.
Душа Дали хочет затеряться в лесу, в сумерках жизни, искусства, в дебрях любви.
Он идёт к богу и матери, по заросшей тропинке её стихов…
Начинается повесть в какой-то ангелической тональности: мать играет на полу с маленьким сыном и они нежно ссорятся.
И здесь снова словно бы вспыхивает мотив стиха Тютчева: она сидела на полу…
Т.е. тема игры — как основа мира.
Может так и зародился мир? Мать просто играла в цветах с ребёнком-богом…
Из кусочков картинок, они составляют пейзаж: пустыня, синее небо, тоже, бескрайнее, как пустыня, и одинокий верблюд идёт по пустыне; кажется, он идёт по ней уже 2000 лет… он осуждён вечно идти по ней, он идёт по воздуху, ночи, идёт мимо луны, к далёкой звезде… быть может, Вифлеемской.
Разумеется, мать рисует пейзажи свой души, тоски.
Иной раз игра матери с ребёнком, заменяет ей посещение психотерапевта.
Ах, порой такие бездны души открываются и полыхают перед ребёнком!
Чувствует ли он этот таинственный свет?
Чувствует, но не может осмыслить, и лишь порой, ангел в нём, что-то скажет матери, не глядя на неё, продолжая играть, и даже сам не поняв, что сказал, а мать замрёт изумлённо над игрой…. словно лунатик над бездной: и улыбнётся она тихо, словно она с ангелом играет, исповедует ангелу… и он её понимает.
Так и мальчик в повести. Он решил украсить эту пустыню — мельницей.
Вроде бред, да? Откуда мельница в пустыне?
Для взрослого, с его разумом, этим вечным ребёнком перед вечностью, это бред.
А для ребёнка… обыкновенное чудо, словно маленький принц Экзюпери, он просто хочет населить пустыню — добром.
Да и верблюду будет веселее.
Есть в этой сценке что-то от вечного спора о боге, истине, любви. Правда? Итак всё просто это решается… если посмотреть глазами ребёнка.
У героини повести, Ольги, вроде есть всё: семья, достаток, ребёнок…
Что ещё нужно?
Почему же душа несчастна и томится?
«Умереть нельзя и уснуть нельзя..»
Это тоже из стиха Адель: экзистенциальное томление, вырывающееся за пределы разума, тела, земного счастья.
Похоже на клаустрофобические метания души Сильвии Плат с её романом «Под стеклянным колпаком»
Желание вырваться куда-то, сбросить с себя не только безумие мира, но и саму плоть, тесно и душно обнявшую душу, словно смирительная рубашка.
Мне вдруг подумалось… что данная повесть Адель, изумительно перекликается с пронзительным рассказом Шарлотты Перкинс — Жёлтые обои.
Этот рассказ, тоже, трагической рифмой детства примыкает к повести Адель: он был написан как отклик на послеродовую депрессию.
Известно, что для женщины это экзистенциальный период, который не снился и Сартру.
Женщина в это время — Офелия экзистенциализма: она может убить себя и даже ребёнка, или себя и ребёнка.
Не случайно, мать, словно поэт, говорит о себе и ребёнке — мы: мы покушали, мы поспали…
Нежнейшая, райская шизофрения. Это её творчество, её мука и счастье: её всё. Её общение с богом и душой.
Порой это так же нормально для женщины, как убить в себе какое то чувство… к кому либо.
Тут уже сфера трансцендентности, мало понятная на земле.
Но если дышать в мире нечем, жить некуда? Тема русалочки выброшенной на берег и задыхающейся без любви.
Поэт порой уничтожает свои стихи. Женщина — свою душу, ребёнка. И себя: ребёнок это её пуповина и связь с миром.
Погибнуть — словно родиться в смерть.
Это архетип Медеи, и даже больше, попытка стать сразу — душой: ребёнком в вечности.
В Жёлтых обоях, молодая жена с мужем переезжают в заброшенный домик возле чудесного леса, чтобы женщина смогла поправить своё душевное здоровье.
Ей отводится странная комната с жёлтыми старыми обоями, со странными стигматами былой боли: словно в этой комнате раньше находился душевнобольной… или ребёнок умирал.
Муж оставляет женщину наедине с собой. Он занят собой, работой… а душа женщины, словно Эдемский сад, зарастает осенью, болью, одиночеством: она тихо сходит с ума, теряясь душой в узорах обоев.
И если академические идиоты разглядели в рассказе гимн эмансипации женщины, то в повести Адель, реальная проблема эмансипации.. но не женщины, а вообще — души, в этом безумном мире.
Вместо жёлтых обоев в повести Адель — привычный до тошноты мир, с поступками мужчин и женщин, их чувствами, мыслями, мечтами, кошмарно убогими и словно бы повторяющимися из века в век, как узоры старых обоев.
И нет спасения и опоры нигде: нянечка ребёнка — словно дракон из сказки, фактически отняла и присвоила ребёнка.
И в этом плане ребёнок олицетворяет ещё и душу женщины.
Муж… он вечно в разъездах. Есть в нём что-то от ангелов: светлый, хороший… приедет на пару дней, погладит по плечу… и снова исчезает, оставляя с безумием мира.
А кто… душу озябшую согреет, погладит, хоть раз?
На сцене появляется… любовник.
Но это выглядит так, словно лермонтовский демон искушает Тамару.
Душа женщины, словно лунатик, идя по карнизу отношений, понимает, что и это всё не то.
Словно мир заколдован и всё в нём до предела нелепо, карикатурно: и муж, и няня-дракон и любовник.
Душа задыхается, сходит с ума: этот экзистенциальный род сумасшествия ещё не был описан в искусстве: мать и дитя — как одно целое, как раздвоение личности: это единое, мучительно-прекрасное существо.
Мать хочет похитить его, убежать с ним… сесть в ночной поезд и выйти в ночном поле, выйти в звёзды.
По сути, женщина тайно мечтает, чтобы похитили её: но это не человек…
Эрих Фромм писал:
Женщина в повести, заигрывается. Она как лунатик — по ту сторону добра и зла. И это соблазнительно: сквознячки свободы и покоя..
Но её душа, томящаяся, бессмертная, словно бы спит и страдает, и бессознательно стремится к катарсису трагедии: пусть случится хоть что-то. Безумное и великое; конец света, мой конец, луна приблизится к земле... не важно: хоть бы что то случилось, что пробудило меня!
Сам разум в этом мире, уже — спящее чудовище.
Потому мир и безумен, надломлен и чёрен в своей основе — без бога и души, и потому всякая игра, игры разума, цивилизаций, с их мечтою о достатке и сытости плоти (это сейчас модно на западе — тело, вместо бога и души), ведёт к бездне, словно лунатиков на карнизе: да, у повести есть ещё и эсхатологическое прочтение.
Этот разумный мир, падший мир, слишком безумен для мира души и любви: заигрываясь с ним, летящим тихо в бездну, можно и самому сорваться в неё… или снова убить бога, «распять ребёнка-Христа».
Конец повести, словно листва в осеннем Эдеме, сквозится синевою и звёздами, каким-то 5-6 измерением: трагедия с ребёнком пробуждает в женщине — небо, любовь, этот высший разум, ту тропу души, заросшую звёздами, по которой не смогли выбраться ни герои Сильвии Плат, ни Шарлотты Перкинс.
Можно называть это тайной русского пути, а можно и просто — тайным путём души, в этом безумном мире, где драконы порой лучше людей.
Есть что-то пронзительно новозаветное в концовке повести, что быть может снилось Марии или… маленькому Христу, когда он однажды, среди ночи, заплакал и вскрикнул во сне и мама его обняла и прижала к себе.
Аделаида Герцык (стоит). Маленький Далик на руках у нянечки.

Рассеянно переходила через лужи, перебегала улицы, и мысли уводили, уносили куда-то — неясные, но такие знакомые, не мысли, а чувства чего-то неведомого и желанного, близкого и далёкого, единственно верного и важного в её жизни. Как только она оставалась одна, в ней вставал этот мир. Она не знала, где он и о чём вещает, но были в жизни слова, предметы, звуки, которые напоминали его, и их она любила более всего и отмечала про себя.

Домом правила Анна Игнатьевна, вводя свой моральный закон во все вопросы жизни.

И, стоя в передней, провожая их, горела от стыда и вины за свои неласковые мысли, за то, что не умела радоваться им и быть доброй и простой. Ведь не они, а она притворялась и говорила ненужные слова. И улыбалась жалкой улыбкой, и благодарила.









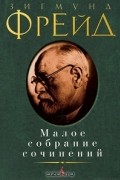










Другие издания
