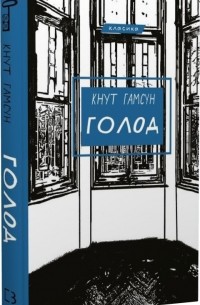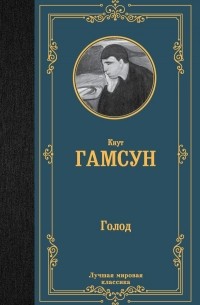
 Ваша оценка
Ваша оценкаЖанры
Рейтинг LiveLib
- 534%
- 441%
- 319%
- 24%
- 11%
 Ваша оценка
Ваша оценкаРецензии
 Аноним4 мая 2021 г.
Аноним4 мая 2021 г."Нет, действительно спасения нет, спасения нет никакого!..."
Читать далее"Господи всемогущий! Я жизнь готов отдать за единый миг счастья! Всю свою жизнь - за чечевичную похлёбку! Хоть на этот раз внемли моим мольбам...
Эй ты, я готов был служить тебе, но ты отринул меня..."Голод, холод, безденежье, бездомность - чего только не придется испытать главному герою романа, произведения, целиком и полностью пронизанного тоской, жалостью к себе, упреками к окружающим и главное, к Богу...Мрачность книги не знает пределов, мы словно попадаем вместе с героем в замкнутый круг: нет денег - значит, нет и еды - нет сил, чтобы писать - соответственно, денег опять нет...И на словах легко, труднее представить себе въявь вот это отупляющее состояние, когда человек исподволь теряет свое человеческое достоинство, превращаясь постепенно в бродягу, попрошайку, озлобленного и измученного на весь белый свет, хотя, напротив, многие к нему благоволят и помогают, чем могут. Оттого и читать эти страницы (хотя книга совсем небольшая по объему) невероятно тяжело, сложно принять эти бесконечные жалобы, стоны, укоры в адрес Всевышнего; нелепо читать на протяжении всей книги и о том, как персонаж словно берет бесконечные авансы у будущего, оправдываясь работой, которую он еще не сделал, рассказывая о статьях, которые он еще не написал - для него, в его воспаленном сознании они уже давно написаны, более того, он уже ждет за них оплату. Но Вселенная никогда и никому не раздает авансы просто так...
И самое обидное здесь то, на что тратит свои силы, свою энергию и свободное время этот неглупый в общем-то молодой человек, еще не потерянный для общества окончательно - на глупое прожектерство вместо того, чтобы действовать, созидать, помогать другим, делая что-то полезное. Он занят лишь мечтами да надеждами, оторванными до невозможности от реальности, хотя у него явно есть способности к творчеству, литературным вещам - кое-какие же статьи редакторы журналов и газет у него все же принимают, у него есть чувство юмора, раз в журнале печатают его фельетон.
На что он тратит свои способности?! Он не может довести до конца ни одного начатого дела: задумал глубокую остросоциальную статью о преступлениях и природе зла - не закончил, замыслил философское сочинение - опять в пустоту, бросил, где-то там еще в начале. Начал пьесу - должно выйти если не смешно, то хотя бы жизненно - куда там! Пьеса тоже потерялась в чертогах бытия, недописанная недосказанная история. Вся жизнь героя как его же фельетон, им написанный, дурно ли вышло, хорошо ли - ну как есть. И потому местами не знаешь: плакать или смеяться над всем этим, одна любовная эпопея с загадочной дамой под еще более таинственным и труднопроизносимым именем Илаяли здесь чего стоит - пошленькая драма с заявкой на глубину чувств...
"От чтения у меня не стало глаз, мозг иссох от голода, а что я получил взамен? Даже уличные девки ужасаются и кричат "Господи!" при виде меня..."
Читаешь и думаешь про себя: а может, когда-нибудь наш герой все же наконец возьмется за ум, поймет, что дело не в других, а прежде всего в нем самом. Конец книги (к сожалению, не самой истории) вроде бы обнадеживает в этом смысле, надолго ли...
"Но какой несчастливый день, с утра до вечера мне ни разу не повезло" - так потому что везет тому, кто везет...
2285,1K Аноним8 октября 2015 г.Читать далее
Аноним8 октября 2015 г.Читать далееНетрудно понять, за что можно не любить Гамсуна. Пересказать сюжет романа, так ерунда какая-то. Бродит мужик по городу, хочет пожрать, то щепочку в рот себе сунет, то камешек, то одеялко продать пытается. При этом его постоянно колбасит и он делает непонятные вещи: то пуговицы пытается сдать в ломбард, то к даме какой привяжется и зовёт её выдуманным именем, то вдруг петух его клюёт в тыльные места, и мужик начинает по полной параноить и что-то выдумывать. Так что с точки зрения сюжета, конечно, Гамсун великой зрелищности не даёт. Но в этом и соль.
Центральный персонаж "Голода" мучительно переживает несоответствие между идеальным и материальным миром. Его душа витает где-то высоко, а вот тело, увы, вынуждено ютиться в печальных условиях почти по Достоевскому. Кругом какие-то грязные тряпки, рваньё, старьё, драные ботинки, страшная нищета, какие-то обрывки, бумажки, мелочи, всё в безумных серо-грязных тонах. Вроде бы взять и отринуть этот голод, как вещь несущественную, но не получается, он вместе с морозом пронзает насквозь и намертво закупоривает доступ к идеальному миру, потому что как достичь духовных высот, если у тебя обморожены пальцы и бурчит в животе. Нет, это только в сказках вдохновлённые поэтической силой чудотворцы могут питаться маковой росой и чистым воздухом.
Хотя поначалу кажется, что в центре романа голод физический, это отнюдь не так. Гамсун пишет о внутреннем голоде человека, который развивается на фоне физического. Главному персонажу романа всё что-то надо, и это вовсе не окорок, а что-то большее (два окорока, подсказывают мне, но я имею в виду что-то эфемерное, не для пожрать, а для просветлиться). Вгрызаясь в щепочки и бродя по неприветливым улицам, главный герой параллельно переваривает сам себя в пучине рефлексии, сомнений, мыслей на грани сумасшествия. Он близок к состоянию лёгкого помешательства, и тут голод уже играет роль непреднамеренного поста, очищения, испытания.
Что интересно, в романе нет никакого социального подтекста, хотя кругом только шмерц и нищета. Главный герой, если он хочет, довольно легко получает денежки на пожрать, ему достаточно написать пару заметок куда-нибудь в периодику и почти сразу же получить оплату. Но героя, имени которого мы так и не узнаем, проблема денег не очень-то трогает, без вдохновения он творить не может, точнее, не хочет, зачем ему это ремесло, если он может делать искусство? На работу он устроиться не пытается, а когда всё-таки решает, то легко её получает. На удары жизни, судьбы или какого-нибудь другого широкого и страшного понятия тоже не жалуется, ведь в эту голодную яму он загнал себя сам. Несмотря на то, что он почти всё время адски хочет жрать, всё равно он эту физическую функцию (как и многие другие) воспринимает как-то механистически, как робот. Вроде как ему нужно тело, чтобы существовать дальше, поэтому было бы неплохо закладывать в него иногда топливо.
Нединамичный сюжет и ведущий в никуда финал могут разочаровать читателя, который любит движуху и чтобы всё по полочкам. Всем остальным Гамсун предлагает психологический пазл для работы над собственным просветлением. Писал он его с собственного опыта, так что в атмосферности и достоверности не сумлевайтесь.
1985,5K Аноним12 мая 2021 г.
Аноним12 мая 2021 г.Боль надо мной не властна, мысль не знает удержу
Читать далееЕсли вы хотите полностью проникнуться духом этой книги, то лучше читать её на голодный желудок. А лучше вообще, как главный герой, не поесть пару-тройку дней. Тогда вкрадчивые шаги лёгкого помешательства на почве голода прекрасно лягут в общее философское восприятие этого романа.
Сюжет этой вполне автобиографической книги, которую Гамсун посвятил веменам своей шалой юности, незайтейлив и довольно прост. Но именно это и подкупает, так как талант автора проявляется именно в умении представить обычную ситуацию под таким углом, что читатель непременно задумается о глубоко заложенной в авторский замысел мысли. И если автор не даёт конкретные ответы на экзистенциальные вопросы бытия, то предлагает читателю самому поискать ответы на эти вопросы и, возможно, сделать какие-то заключения.
Герой этого романа – молодой журналист, очутившийся в довольно плачевной ситуации. Он находится в перманентном несоответствии созданного им некоего идеалистического внутреннего мира и нелицеприятной деяствительностью. Он, как слепой котёнок, тычется ей в колени, а она злорадно отпихивает его в сторону, забавляясь его неумелыми попытками. Наш герой и хотел бы жить лишь только мечтами и чаяниями написать хорошую статью, роман, пьесу на злобу дня, но творческому духу необходима подпитка извне. Хочется писать, сидя за удобным столом в тёплом помещении; чтобы на столе стояла тарелка с куском хорошо прожаренного мяса, ломоть свежего хлеба и стакан вина; чтобы было тихо и спокойно от счастливой мысли, что тебя никто никуда не выгонит посреди ночи в леденящий душу и тело мороз. Но нашему герою катастрофически не везёт. Молодой, неглупый мужчина он никак не может преодолеть самим собой установленные барьеры, не хочет взять ответственность за самого себя и принять предлагаемую помощь. Он боится показаться глупым и смешным в глазах других людей. Но даже если они так и не думали, он приложит все усилия, чтобы их мнение поменялось. Он бродит голодный, одинокий, замёрзший по городу в отчаянной попытке куда-нибудь прибиться, отогреться духовно и физически. И иногда это ему даже удаётся. Тогда вместо почерневших апельсиновых корок и древесных щепок, ему перепадает бутерброд, пирожок или даже кусок мяса. Он бы и рад не есть, но тело требует своё; а мозг от голода постепенно усыхает. Однако даже балансируя где-то на грани помешательства, задумываясь о неминуемой смерти, превращаясь в неадекватную, асоциальную личность, он не стремиться устроиться на работу или предпринять какие-то серьёзные шаги в сторону своего спасения.
И вот именно поэтому меня очень удивил финал романа. Если честно, предполагала логическую концовку, но автор уверенным росчерком пера приподнял завесу над беспросветным тленом и впустил лучик добра.
1561,8K
Цитаты
 Аноним15 июля 2012 г.
Аноним15 июля 2012 г.Едва открыв глаза, я по старой привычке начал подумывать, чему бы мне порадоваться сегодня.
859,8K Аноним9 февраля 2019 г.Читать далее
Аноним9 февраля 2019 г.Читать далееЕдва открыв глаза, я по старой привычке начал подумывать, чему бы мне порадоваться сегодня.
Я плыл по течению, купался в радостном утре, беззаботно расхаживал среди других веселых людей; воздух был чист и ясен, душу мою не омрачало ничто.
Он был похож на огромное искалеченное насекомое, которое упорно и настойчиво стремится куда-то и занимает собою весь тротуар.
Будущее мне не страшно, на мою долю хватит.
Мало-помалу мною овладевает странное ощущение, что я где-то далеко отсюда, во мне рождается смутное чувство, что не я, а кто-то другой идет по этим каменным плитам, потупив голову.
Мы не двигаемся и смотрим друг другу в глаза; это длится с минуту; от окна к тротуару несутся мысли, но мы не вымолвили ни слова.
Я держался как можно прямее и шел не останавливаясь; ноги подо мной дрожали, походка стала неверной, именно потому, что я хотел идти как можно красивее. Стараясь казаться спокойным и равнодушным, я нелепо размахивал руками, сплевывал и высоко задирал нос; но тщетно. Я все время чувствовал испытующий взгляд у себя за спиной, и по телу моему пробегал холодок.
Как весело и легко все эти встречные вертят головами, как ясны их мысли, как свободно скользят они по жизни, словно по паркету бальной залы! Ни у кого из них я не прочел в глазах печали, их плечи не отягощает никакое бремя, в безмятежных душах, кажется, нет ни мрачных забот, ни тени тайного страдания. А я бродил среди этих людей, молодой, едва начавший жить и забывший уже, что такое счастье! Эта мысль не покидала меня, и я чувствовал, что стал жертвой чудовищной несправедливости. Почему в последние месяцы мне живется так невыносимо тяжело? Мою неомраченную душу словно подменили, повсюду меня подстерегали горькие разочарования. Стоило мне присесть на скамейку или сделать хоть шаг, как на меня сразу обрушивались какие-то жалкие и ничтожные нелепости, они вторгались в мой внутренний мир, вынуждали понапрасну растрачивать силы.
С того майского дня, когда начались мои злоключения, я чувствовал, как мною постепенно завладевает слабость, я стал слишком вялым, утратил волю и целенаправленность, словно стая каких-то мелких хищников вселилась в мое тело и грызла его изнутри. А что, если бог попросту решил меня погубить?
Я определенно заметил, что стоит мне поголодать несколько дней подряд, как мой мозг начинает словно бы вытекать и голова пустеет. Она становится легкой и бесплотной, я больше не чувствую ее у себя на плечах, и мне кажется, что, когда я на кого-нибудь гляжу, глаза мои раскрываются до невероятности широко.
Я сидел на скамейке и думал обо всем этом, все горше сетуя на бога за эти беспрерывные мучения. Если он, испытывая меня и воздвигая на моем пути препятствие за препятствием, хочет приблизить меня к себе, очистить мою душу, то смею его заверить, что он ошибается. Я поднял глаза к небу, чуть не плача от негодования, и раз навсегда высказал ему все, чтобы облегчить душу.
Зачем заботился я о том, что мне есть и пить, во что одеть бренную свою плоть? Разве Отец Небесный не питает меня, как питает птиц, и не оказал мне особой милости, избрав раба своего? Перст божий коснулся нервов моих и потихоньку, едва заметно, тронул их нити. А потом господь вынул перст свой, и вот на нем обрывки нитей и комочки моих нервов. И осталась зияющая дыра от перста его, перста божия, и рана в моем мозгу. Но, коснувшись меня перстом десницы своей, господь покинул меня и не трогал более, и не было мне никакого зла. Он отпустил меня с миром, отпустил с открытой раной. И не было мне никакого зла от бога, ибо он – господь наш во веки веков…
Я смотрел вдаль. Уже одно то, что не было ни малейшей возможности проникнуть в эту тайну, разжигало во мне любопытство.
Доверчивость этого карлика пробудила во мне какую-то дурацкую наглость, хотелось немилосердно утопить его во лжи, сломить его сопротивление.
Какие-то отрывочные мысли роятся в голове, гаснущий день навевает уныние и грусть. Осень уже пришла и начинала сковывать все сном, мухи и насекомые ощутили на себе ее дыхание, в листве деревьев и на земле слышен шорох – это не хочет покориться жизнь, она беспокойна, шумна, неугомонна, она не щадит сил в своей борьбе против умирания. Все ползучие твари снова высовывают желтые головы из мха, шевелят конечностями, ощупывают землю длинными усиками, а потом вдруг падают, опрокидываются кверху лапками. Всякая былинка принимает особенный, неповторимый оттенок под дыханием первых холодов; бледные стебельки тянутся к солнцу, опавшие листья шуршат на земле, словно шелковичные черви. Осенняя пора, карнавал тления; кроваво-красные лепестки роз обрели воспаленный, небывалый отлив.
Я сам чувствовал себя, словно червь, гибнущий среди этого готового погрузиться в спячку мира.
Эту зияющую пустоту в голове я ощущаю всем своим существом, мне кажется, что весь я пуст с головы до ног.
Во мне как будто родник забил, одно слово влечет за собой другое, они связно ложатся на бумагу, возникает сюжет; сменяются эпизоды, в голове у меня мелькают реплики и события, я чувствую себя совершенно счастливым. Как одержимый исписываю я страницу за страницей, не отрывая карандаша от бумаги. Мысли приходят так быстро, обрушиваются на меня с такой щедростью, что я упускаю множество подробностей, которые не успеваю записать, хотя стараюсь изо всех сил. Я полон всем этим, весь захвачен темой, и всякое слово, написанное мною, словно изливается само по себе.
Аудиенция кончилась, я с поклонами отступаю назад и ухожу. Душа моя снова полна надежды: еще ничего не потеряно, напротив, я еще могу многого добиться, если уж на то пошло. И в голове у меня рождаются всякие фантазии, мне мнится, что у престола Всевышнего решено вознаградить меня за мой фельетон десятью кронами…
Пустые видения и сны! Я стал внушать себе, что, если б я теперь добыл еды, голова моя снова пришла бы в расстройство, мне пришлось бы бороться с тою же самой лихорадкой в мыслях, с наплывом безумных фантазий. Таков уж я был, еда приносила мне вред; это была моя странность, мое особенное свойство.
Все вокруг было погружено в темноту, стояла тишина, полнейшая тишина. Лишь в высоте звучала вечная песня воздушных стихий, далекий, монотонный гул, который никогда не смолкает. Я так долго прислушивался к этому бесконечному, тоскливому звучанию, что мне сделалось не по себе; ведь это была музыка блуждающих миров, мелодия звезд…
Вообще говоря, не имело смысла влачить столь жалкую жизнь; видит бог, я решительно не понимал, за что мне ниспослано это наказание!
Чем дальше я уходил, тем радостнее становилось мне от мысли, что я преодолел это тяжкое искушение. Я думал о том, что остался честным человеком, что у меня твердая воля, что я, как яркий маяк, возвышаюсь над мутным людским морем, где плавают обломки кораблекрушений, и это исполняло меня гордости. Заложить чужую вещь, только чтобы пообедать, угрызаться совестью из-за каждого куска, ругать себя прощелыгой, стыдиться перед самим собой – нет, никогда! Никогда! Такая мысль не могла прийти мне всерьез, ее, можно сказать, вовсе и не было; а за случайные, мимолетные мыслишки человека винить нельзя, в особенности, когда нестерпимо болит голова и до смерти устаешь все время таскать с собой чужое одеяло.
Пути счастья сплошь и рядом неисповедимы.
Что толку, если все самые горячие, самые решительные попытки что-то предпринять оканчивались неудачей?
С течением времени все более сильное опустошение, душевное и телесное, завладевало мною, с каждым днем я все чаще поступался своей честностью. Я лгал без зазрения совести, не уплатил бедной женщине за квартиру, мне даже пришла в голову преподлая мысль украсть чужое одеяло – и никакого раскаяния, ни малейшего стыда. Я разлагался изнутри, во мне разрасталась какая-то черная плесень. А там, на небесах, восседал бог и не спускал с меня глаз, следил, чтобы моя погибель наступила по всем правилам, медленно, постепенно и неотвратимо. Но в преисподней метались злобные черти и рвали на себе волосы, оттого что я так долго не совершал смертного греха, за который господь по справедливости низверг бы меня в ад…
Я уже дошел до того, что каждый мог, посмотрев на меня, мысленно сказать: «Вон идет нищий, он клянчит у людей себе на пропитание!»
Прошел час, он тянулся так медленно, что казался бесконечным.
Черных мыслей вмиг как не бывало, я забыл все свои невзгоды, успокоенный зрелищем морской глади, такой безмятежной и чудесной в вечерних сумерках.
От голода я словно охмелел и был как пьяный.
Мой смех безмолвен, он подобен затаенному рыданию…
Скорбь моя прошла, ее заглушил голод; теперь я ощущал в себе приятную пустоту, ничто меня не тревожило, и я радовался своему одиночеству. Я забрался на скамейку с ногами и прилег – так удобнее всего было наслаждаться уединением. Ни единое облачко не омрачало мою душу, у меня не было тягостных чувств, и мне казалось, что сбылись все мои мечты и желания. Я лежал с открытыми глазами, словно отрешившись от самого себя, мысленно уносясь в блаженные дали.
Я уснул, лежа на скамейке, и полицейский разбудил меня. Надо было дальше влачить нищенскую жизнь. Первым моим чувством было тупое изумление, что я очутился под открытым небом, но оно скоро сменилось горькой тоской; я готов был плакать от досады, что я все еще жив.
Отчего судьба так жестока? Разве я не имею такого же права жить, как антикварий Паша и пароходный агент Хеннехен? Разве у меня нет сильных плеч и пары крепких рабочих рук, разве я не готов удовольствоваться хотя бы местом дровосека на Меллергаде, чтобы зарабатывать на хлеб насущный? Разве я лентяй? Разве я не искал работы, не слушал лекций, не писал статей, не читал, не трудился день и ночь, как одержимый? Разве я не экономил, не питался хлебом и молоком, когда дела мои шли в гору, одним только хлебом – когда они шли хуже, и не голодал – когда оказывался совсем без средств? Разве я жил в гостинице или в большой квартире на первом этаже? Нет, я жил на чердаке, а потом – в мастерской жестянщика, которую в ту зиму совершенно забросили, потому что ее заносило снегом. И теперь я решительно ничего не мог понять.
От голода мною овладело ликующее безумие: боль надо мной не властна, мысль не знает удержу.
Голод снова проснулся, болью сводит грудь, пробегает судорогой по телу, слабо, но ощутимо пронзает меня. Неужели мне не найти ни друга, ни знакомого, – никого, к кому бы я мог обратиться? Я роюсь в памяти, стараюсь придумать, кто дал бы мне десять эре, но не нахожу такого человека. А день так чудесен! Вокруг столько тепла и света; небо растеклось над головой, как море, опрокинутое над горной грядой…
Я не спал и все же разговаривал как во сне. Голова моя была легка, я не чувствовал ни боли, ни тяжести, и ни единое облачко не омрачало душу. Я плыл по воле стихий.Казалось, любезность этого человека безгранична, я не мог ее не оценить. Лучше уж умереть с голоду. И я ушел.
– Хватит шуток! Совесть, говоришь? Вздор, ты слишком беден, чтобы носиться со своей совестью.
Прием от 12 до 4; я опоздал на целый час, время милосердия истекло!
Боже, каким мрачным представлялось мне будущее! Я не плакал, у меня не было на это сил; измученный до предела, я сидел бесцельно и неподвижно, сидел, терзаемый голодом. Грудь моя в особенности пылала, внутри нестерпимо жгло. Я пробовал жевать стружку, но это больше не помогало мне; челюсти мои устали от напрасной работы, и я уже не утруждал их. Я покорился. К тому же кусок почерневшей апельсинной корки, который я подобрал на улице и тотчас же принялся жевать, вызвал у меня тошноту. Я был болен; на руках у меня вздулись синие жилы.
В конце концов какая разница, свершится ли неизбежное днем раньше или днем позже? Порядочный человек на моем месте давным-давно пошел бы домой, лег и смирился.
Разнесчастная моя судьба, живой человек превратился от голода в этакую развалину! Меня снова охватило бешенство, это была словно последняя вспышка, судорога. Стало быть, лица нет? У меня хорошая голова, второй такой не сыскать во всей стране, и пара кулаков, которые – боже избави! – могли бы стереть человека в порошок, и я гибну от голода в самом центре Христианин! Разве это мыслимо? Я жил в свинарнике и надрывался с утра до ночи, как черный вол. От чтения у меня не стало глаз, мозг иссох от голода, – а что я получил взамен? Даже уличные девки ужасаются и кричат «господи!» при виде меня. Но теперь этому придет конец, – понятно тебе? – придет конец, черт возьми!.. Я трясся от бешенства и скрежетал зубами, слабость захлестывала меня, в глазах стояли слезы, с губ слетали проклятия, и так я плелся вперед, не обращая внимания на прохожих. Я снова начал мучить себя, намеренно стукался лбом о фонарные столбы, глубоко вонзал ногти в ладони, в безумии кусал себе язык, когда начинал говорить бессвязно, и хохотал всякий раз, когда мне было больно.
«Это не было наитие свыше, – подумал я и горько улыбнулся. – Уж если на то пошло, с такой высоты я и сам мог бы ниспослать наитие».
Столько лет я держался, в такие тяжкие часы сохранял достоинство, а теперь вдруг скатился до самого примитивного нищенства. За один день я своим бесстыдством лишил возвышенности все свои мысли, выпачкал душу. Не краснея, я плакался и клянчил деньги у ничтожного лавочника. А к чему это привело? Разве не остался я все равно без куска хлеба? И теперь я стал отвратителен самому себе.
Когда Йене Олай слишком сильно хлопал подо мною дверью конюшни или на заднем дворе начинала лаять собака, меня до мозга костей пронизывало холодом, и это ощущение отдавалось по всему телу.
Этот человек с хлестким пером, которым он умеет бичевать до крови.
Черт возьми, неужели моим невзгодам так и не будет конца! Я шагал широкими, яростными шагами, подняв воротник куртки и сжимая кулаки в карманах брюк, шел и проклинал свою несчастную звезду. Ни одной блаженной минуты за целых восемь месяцев, всякую неделю я голодаю, бедствую и теряю силы. И к тому же, при всей своей нищете, я честен, хе-хе, честен всегда и во всем! Боже правый, как я смешон! И я бормотал о том, как меня мучила совесть, потому что однажды я снес к ростовщику одеяло Ханса Паули. Я презрительно хохотал над своей больной совестью, брезгливо плевал на землю и не находил достаточно резких слов, издеваясь над своей глупостью. Ах, случись это теперь! Если б в этот миг я нашел на улице кошелек, потерянный школьницей, единственную монетку бедной вдовы, я поднял бы ее и сунул в карман, украл бы со спокойной совестью и сладко спал бы всю следующую ночь. Недаром я так долго страдал, мое терпение истощилось, и я был готов на все.
Вокруг царила полутьма, всюду бродили люди, то парами, то шумной толпой. Наступил великий миг, пришло время любви, когда души тайно сливаются и жизнь подобна счастливой сказке.
Чтобы утешить и вознаградить себя, я стал выискивать всевозможные недостатки у этих счастливых людей, скользивших мимо меня; я сердито пожимал плечами и презрительно смотрел на них, когда они проходили, пара за парой. Эти самодовольные лакомки-студенты, которые думают, что ведут себя, как европейские повесы, когда им удается коснуться груди какой-нибудь швейки! Эти молодые люди, банкиры, коммерсанты, бульварные волокиты, которые не брезгуют даже матросскими женами, толстыми куколками со скотного рынка, отдающимися за кружку пива в первой же подворотне. Ну и сирены! Их постель еще не остыла после посещения пожарного или конюха… Трон всегда свободен, доступен всякому, милости просим, взойдите!.. Я плевал изо всех сил, не заботясь о том, что могу попасть в кого-нибудь, был озлоблен, полон презрения к этим людям, льнувшим друг к другу и сходившимся на моих глазах. Я высоко держал голову и был счастлив, что соблюл себя в чистоте.
Господи, как трудно мне было удержаться на поверхности, за что бы я ни ухватился!
Я прислушиваюсь к своей болтовне, словно не я, а кто-то другой говорит все это.
Я был в отчаянье, шел по улице и плакал, проклиная те чудовищные силы, каковы бы они ни были, за то, что они так беспощадно преследуют меня, призывал на них проклятие ада и вечные муки за их жестокость. Да, эти силы не отличаются рыцарским благородством, право, не отличаются, уж это точно!..
И мы пошли; она шла по правую руку от меня. Мною овладело приятное, неповторимое ощущение – ощущение близости молодой женщины. Я не отрываясь смотрел на нее. Аромат духов, источаемый ее волосами, тепло, исходившее от ее тела, сладостный запах женщины, легкое дыхание, которое овевало меня всякий раз, как она поворачивалась ко мне лицом, – все это проникало, пронизывало меня до глубины души. Я лишь смутно различал под вуалью полное, чуть бледное лицо, а под накидкой – высокую грудь. Этот дивный соблазн, таившийся под покровами, смущал меня, и в то же время я чувствовал беспричинное счастье; не вытерпев, я коснулся ее рукою, дотронулся до ее плеча и глупо улыбнулся. Я слышал, как билось мое сердце.
– Что смотреть в таком крошечном зверинце? И вообще я не люблю смотреть зверей в клетках. Эти звери знают, что человек на них смотрит, чувствуют на себе сотни любопытных глаз, и это действует на них. Нет, я предпочитаю зверей, которые и не подозревают, что на них смотрят, они таятся в своих норах, их зеленые глаза лениво светятся, они лижут лапы и думают.
– Только звери со всем своим диким своеобразием, злобные и свирепые, могут быть интересны. Когда они бесшумно крадутся в ночной тьме, через грозную чашу леса, и слышатся птичьи крики, и шумит ветер, и пахнет кровью, и рев, и грохот, – одним словом, когда зверей овевает дух дикой природы…
Но, когда мы стояли у подъезда, я вновь остро почувствовал свою нищету. Как такому обездоленному человеку сохранить бодрость духа? Грязный, измученный, изуродованный голодом, весь в лохмотьях, стоял я перед этой молодой женщиной, готовый провалиться сквозь землю.
Я начал копаться в себе и неоспоримо установил, что был счастливее прежде, в те дни, когда страдал, имея чистую совесть.
Какая это дивная отрада – снова стать честным человеком! Пустые карманы давали мне ощущение легкости, как чудесно было снова стать чистым. Ведь если разобраться, эти деньги, в сущности, возбуждали во мне немало тайной горечи, при мысли о них я всякий раз вздрагивал; ведь у меня не закоснелая душа, моя честность была оскорблена этим низким поступком, да, да! Слава богу, я оправдался в собственных глазах.
Великий боже, как я обездолен! Вся моя жалкая жизнь так постыла мне, я так бесконечно устал, что больше не стоит труда бороться, не стоит поддерживать ее. Невзгоды доконали меня, они были слишком суровы; я совершенно разбит, стал собственной жалкой тенью. Плечи мои поникли, перекосились, я ходил скрючившись, чтобы хоть немного унять боль в груди. Два дня назад, у себя дома, я осмотрел свое тело – и не мог удержать слез. Несколько недель я не менял рубашки, она вся задубела от пота и до крови натирала мне пупок; растертое место кровоточило, и хотя боли я не чувствовал, было так грустно носить на себе эту рану. Я не мог ее залечить, и сама по себе она не заживала; я промыл ее, осторожно вытер и снова надел ту же рубашку. Что ж было делать…
Я сижу на скамейке, думаю обо всем этом, и мне очень грустно. Я противен себе; даже руки мои кажутся мне омерзительными. Эти слабые, до непристойности немощные руки вызывают у меня досаду; я сержусь, глядя на свои тонкие пальцы, ненавижу свое хилое тело, содрогаюсь при мысли, что должен влачить, ощущать эту бренную оболочку. Господи, хоть бы все это скорей кончилось! Как я хочу умереть!
Ах ты господи, среди каких глупцов приходится жить!
Господи всемогущий, я жизнь готов отдать за единый миг счастья! Всю свою жизнь – за чечевичную похлебку! Хоть на этот раз внемли моим мольбам!..
Я не очень страдал, и мне не хотелось плакать, вообще я не был печален, наоборот, я был очень радостен и уже не желал иной судьбы.
Единственное, что меня все же мучило, несмотря на отвращение к пище, был голод. Я снова начал чувствовать низменный аппетит, сосущее ощущение в животе, которое становилось все сильнее. Боль немилосердно терзала мою грудь, там шла какая-то безмолвная, странная возня. Казалось, с десяток крошечных зверьков грызли ее то с одной, то с другой стороны, потом затихали и снова принимались за дело, бесшумно вгрызались в меня, выедали целые куски…
Я в неистовстве стискивал кулаки, плакал от бессилия и яростно грыз кость; я обливался слезами, кость стала грязной и мокрой от этих слез, меня рвало, я выкрикивал проклятия, снова грыз кость и плакал в отчаянье, и меня снова рвало. Я громко проклинал весь божий свет.
Тишина. Вокруг ни души, всюду темнота и безмолвие. Моя душа в страшном смятении, я тяжело и шумно дышу, обливаясь слезами, и со скрежетом зубовным извергаю из себя один за другим кусочки мяса, которые могли бы хоть немного меня насытить.
Ах, все это книжные разглагольствования, даже в своем ничтожестве я стараюсь выражаться красиво.
У меня было такое чувство, что жизнь почти покинула меня и песенка моя спета. Но это было мне, в сущности, безразлично, это нисколько меня не беспокоило. Напротив, я шел через город, к порту, все более удаляясь от своего жилья. Я вполне мог бы лечь прямо на улице и умереть. От страданий я стал безучастным; искалеченные пальцы на ноге болели, мне казалось даже, что боль распространилась вверх до самого бедра, но и это не очень меня тревожило. Я пережил гораздо худшие страдания.
—... Ах, как это скучно, когда человек застенчив! Все приходится говорить и делать самой, а от вас никакой помощи.
Какое наслаждение снова сидеть в человеческом жилище, слушать тиканье часов и разговаривать с юной, веселой девушкой, а не бормотать что-то себе под нос.
Я полагаю, можно иметь чувствительное сердце, даже не будучи сумасшедшим; есть натуры, которые отзываются на всякую мелочь, их можно убить одним резким словом.
Интеллигентный бедняк гораздо наблюдательней интеллигентного богача. Бедняк всегда осмотрителен, следит за каждым своим шагом, подозрительно относится к каждому слову, которое слышит; всякий его шаг заставляет напрягаться, работать его мысли и чувства. Он проницателен, чуток, он искушен опытом, его душа изранена…
Она быстро подошла ко мне и протянула руку. Я с недоверием смотрел на нее. Сделала ли она это от души? Или же только для того, чтобы избавиться от меня? Она обвила руками мою шею, и на глазах у нее выступили слезы. А я стоял и смотрел на нее. Она подставила мне губы, но я не верил ей, это просто была жертва, лишь бы все поскорей кончилось.
Пришла зима, холодная, сырая и почти бесснежная, наступила вечная, туманная ночь, и почти целую неделю не ощущалось даже свежего дуновения ветерка. На улицах целыми днями горели газовые фонари, и все же люди натыкались друг на друга в тумане. Все звуки – звон церковных колоколов, звяканье бубенцов на извозчичьих лошадях, людские голоса – раздавались глухо и были словно похоронены в плотном воздухе. Прошла неделя, потом еще одна, а погода стояла все такая же.
И никто не ведает ни дня, ни часа, когда снизойдет вдохновение, это случается само по себе.
– Ты достаточно долго тревожился о своем рассудке, а теперь хватит! Разве это признак безумия, когда голова замечает и воспринимает все, до последней мелочи? Да ты просто смешон, смею тебя заверить, ведь это очень забавно. Словом, у всякого бывают заскоки, особенно в простых вещах. Это ничего не значит, это – простая случайность. Говорю тебе, ты смешон. А этот счет, эти разнесчастные пять шестнадцатых вонючего сыра, – ха-ха, сыр с гвоздикой и перцем! – что до этого смехотворного сыра, то от него вполне можно отупеть, уж один запах этого сыра способен отправить человека на тот свет… – И я хохотал над всем зеленым сыром на свете. – Нет, ты дай мне что-нибудь съедобное! – сказал я. – Дай мне, ежели угодно, пять шестнадцатых свежего сливочного масла! Тогда другое дело!
Если мне суждено вообще написать что-нибудь, то это возможно только здесь, в тишине.
Мысли мои были далеко, на другом конце света.
В груди у меня встрепенулось волнение, словно в нее вонзилась тонкая игла.
Девчонки продолжали донимать старика. Их забавляло, что он не может шевельнуть головой, и они совали ему соломины в глаза, в ноздри. Он смотрел на них с ненавистью, но не способен был ни вымолвить слово, ни двинуть руками.
Ах, все – тлен! Вся трава зеленая сгорела! Удел всего – гроб в четыре доски и саван от йомфру Андерсен, в подворотне направо…
Завтра мне, пожалуй, удастся найти ночлег, если хорошенько постараться. Где-нибудь да найдется убежище. А покуда я радовался, что не остался без крова сегодня ночью.
Правда, я человек не гордый, я должен прямо сказать, что на свете нет существа смиренней меня.
Нельзя говорить о совести в средние века, совесть впервые изобрел учитель танцев Шекспир, следовательно, вся речь судьи неправильна.
Я всегда был крайне надменным, отказывался от подачек, лишь высокомерно качал головой и говорил: «Нет уж, благодарю покорно». И вот к чему это привело: я снова очутился на улице. Я не остался в своем теплом, уютном жилище, хотя имел к этому полнейшую возможность; меня обуяла гордыня, при первом же слове, которое мне не понравилось, я взвился, никому не дал спуску, я расшвыривал бумажки по десять крон направо и налево, а потом ушел, куда глаза глядят… Я сам себя наказал, покинул свое жилище и вот снова попал в тяжкое положение.
733,2K Аноним26 января 2023 г.Читать далее
Аноним26 января 2023 г.Читать далееПотом мне вдруг пришло в голову пойти на рынок и раздобыть кусок сырого мяса. Я встал, прошел вдоль балюстрады к дальнему концу крытого рынка и стал спускаться по лестнице. Немного не доходя до мясных рядов, я обернулся назад и сердито прикрикнул на воображаемую собаку, словно приказывая ей оставаться на месте, а потом смело обратился к первому попавшемуся мяснику.
— Не откажите в любезности, дайте кость для моей собаки! — сказал я. — Только кость, без мяса: просто собаке нужно держать что-нибудь в зубах.
Мне дали кость, превосходную косточку, на которой еще оставалось немного мяса, и я спрятал ее под курткой. Я так горячо благодарил мясника, что он посмотрел на меня с изумлением.
— Не стоит благодарности, — сказал он.
— Ах, не говорите, — пробормотал я. — Вы так любезны.
И я стал подыматься по лестнице. Сердце мое колотилось.
Я свернул в глухой переулок и остановился у каких-то развалившихся ворот. Здесь было совсем темно, и я, радуясь этой благодатной темноте, стал глодать кость.
Она была безвкусна; от нее исходил омерзительный запах спекшейся крови, и меня вскоре стошнило. Потом я снова попробовал приняться за кость; если б я мог удержать хоть кусочек, это, конечно, оказало бы свое действие, нужно было только удержать. Но меня снова стошнило. Я рассердился, решительно оторвал зубами кусочек мяса и насильно проглотил его. Но все было тщетно; как только кусочки мяса согревались в животе, они тотчас извергались оттуда. Я в неистовстве стискивал кулаки, плакал от бессилия и яростно грыз кость; я обливался слезами, кость стала грязной и мокрой от этих слез, меня рвало, я выкрикивал проклятия, снова грыз кость и плакал в отчаянье, и меня снова рвало. Я громко проклинал весь божий свет.
Тишина. Вокруг ни души, всюду темнота и безмолвие. Моя душа в страшном смятении, я тяжело и шумно дышу, обливаясь слезами, и со скрежетом зубовным извергаю из себя один за другим кусочки мяса, которые могли бы хоть немного меня насытить. Я ничего не могу поделать, как ни стараюсь, и в бессильной ярости, в неистовой злобе швыряю кость в подворотню, дико кричу, возношу хулы к небу, хриплым, надтреснутым голосом измываюсь над именем Божиим, воздеваю руки со скрюченными, как когти, пальцами… Эй ты, всевышний Ваал, тебя нет, но если б ты был, я проклял бы тебя так ужасно, что в небе твоем воспылал бы адский пламень. Эй ты, я готов был служить тебе, но ты отринул меня, и теперь я навеки от тебя отвернулся, потому что ты упустил свой час. Эй ты, я знаю, что скоро умру, и сейчас, у двери гроба, я все равно плюю на тебя, всевышний Апис. Ты хотел подчинить меня силой, не зная, что меня нельзя сломить. Неужели ты не знаешь этого? Или ты сотворил сердце мое во сне? Эй ты, всем своим существом, всеми фибрами души я презираю тебя, я торжествую и плюю на твою благодать. Отныне я отрекаюсь от твоего промысла и твоей сущности, я прокляну самую свою мысль, если она вновь обратится к тебе, и раздеру свои уста, если они вновь произнесут имя твое. Эй ты, если ты есть, вот тебе мое последнее слово, — ныне, и присно, и во веки веков я говорю тебе: прощай. Я умолкаю, и отворачиваюсь от тебя, и пойду дальше своей дорогой…
Тишина.
Я весь дрожу от волнения и страданий, я не двигаюсь с места и все шепчу проклятья и хулы, всхлипывая и горько рыдая, разбитый и обессиленный безумной вспышкой ярости. Ах, все это книжные разглагольствования, даже в своем ничтожестве я стараюсь выражаться красиво.52191
Подборки с этой книгой

1001 книга, которую нужно прочитать

- 1 001 книга

Эксклюзивная классика

- 1 386 книг

Экранизированные книги

- 1 811 книг

PocketBook

- 1 169 книг

Топ-623

- 623 книги
Другие издания