Античность

- 380 книг
Это бета-версия LiveLib. Сейчас доступна часть функций, остальные из основной версии будут добавляться постепенно.
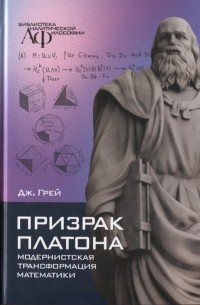
 Ваша оценка
Ваша оценкаЖанры
 Ваша оценка
Ваша оценка
Книга Грея посвящена истории рождения модернистской математики в период с 1890 по 1920-30е годы. Именно в этот период возникла “математика для математиков”: она стала современной, аксиоматичной, структурной и полностью самодостаточной. Схожие процессы в это же время происходили в искусстве, внутри которого была сформулирована идея “искусства ради искусства”. С этой же точки зрения можно посмотреть и на современную философию: недоумения от чтения Делеза или Нанси будет поменьше, если считать, что это “философия для философов”. Однако порвать с реальным обыденным миром не просто, и содержание этой книги это доказывает.
Плюсы: редкая возможность познакомится с историей математики, геометрии и математического анализа в сочетании с обсуждением их философских оснований. Я лично открыла для себя разницу между классической и современной математикой. Очень здорово, что делаются переводы для очень маленькой профессиональной аудитории. В 2021-22 годах вообще нон-стоп стали выходить книги по философии математики в переводе Целищева.
Минусы: редактура. Много ошибок, несогласованностей в падежах, мелких просчетов перевода. Но текст, конечно, очень сложный и 700 страниц “вычистить” трудно.
Плюс-минус: книга не очень концептуальная. Это история развития математики и логики в промежутке 30 лет. Хотя главная идея - отличие классической математики от современной - донесена, все-таки не понятно для какой аудитории она написана. Для философов - слишком много страниц описания непонятных математических теорий. Для математиков - эти страницы банальны. Остается совсем узкая прослойка философов математики и математиков, интересующихся основаниями своей дисциплины. Тем не менее, мне книга была полезна, даже учитывая, что я абсолютный новичок в философии математики и не обладаю математическим мышлением. В книге достаточно рассуждений об основаниях математики, её онтологии и гносеологии, поэтому мне было за что зацепиться и было интересно узнать о рождении современной математики.
Основное достижение модернисткой математики - это разрыв её предмета с физической реальностью и даже нашей неэмпирической интуицией числа, пространства и вообще классической логикой мышления. Как ни странно, математику на пути к прогрессу, тормозил авторитет Канта. В его философии математика и физика были жестко привязаны к интуиции (например, он считал, что априорная интуиция пространства делает его евклидовым), но математики к первой трети XIX века начали придумывать такие объекты, которые были непредставимы, немыслимы и противоречили интуиции пространства и времени обычного человека (и Канта), и все же были математически непротиворечивы (например, пересечение параллельных прямых или актуальная бесконечность). И они не захотели отказываться от своих открытий, предпочтя отказаться от Канта и тех кантианцев, которые считали, что математика основана либо на психологических, либо на физических восприятиях. Данный разрыв хорошо иллюстрирует фраза Пуанкаре: “вместо того, чтобы пытаться примирить интуицию и [математический] анализ, мы довольствуемся тем, что жертвуем одним из них, и поскольку анализ должен быть безупречным, интуиция должна быть поставлена к стенке” (цит. по 167). Раньше математики, так или иначе, верили, что математика имеет неявную, но незыблемую связь с физикой. Существование для них означало нечто близкое существованию в пространстве и времени. В математике модерна требования к существованию стали минимальными: предмет существует, если он свободен от противоречий, если продолжению дедукции ничего не мешает.
Надо прочувствовать надлом (”тревогу” по выражению автора) новой математики. Существование напрямую связано с истинностью. Как только математики ослабили требования к существованию, они ослабили требования к истинности математических объектов, потому что до сих пор истина определялась через действительное существование, через опору на эмпирическую науку. Без претензии на истинность работа математика, очевидно, обессмысливается. Нужно было найти новую опору для истины. Физика отпадает, интуиция не работает, применять негде. И математики обратили свои надежды на строгость и чистоту своих выводов, надеясь найти критерий истинности внутри самой математики. И тут обнаружилось страшное. Оказалось что в математике абсолютной строгости и чистоты практически нигде нет. Конечно в ней строгости больше, чем в других науках, но математики - народ дотошный, им надо чтобы было прям идеально строго. “Как указывает замечание Якоби, доверие к доказательству, скорее всего было доверием к идеализированным доказательствам или тем, которые получались лишь изредка и несколькими избранными математиками, а не к реальным существующими доказательством, опубликованным в современных журналах” (334). Полная достоверность математики стала официально признаваться в германских университетах иллюзией.
Попытка строгой арифметизации геометрии привела к появлению математических конструкций, которые для классической математики выглядели “патологическими”. Даже Пуанкаре, который один из первых стал изучать эти конструкции, признавал, что "логика иногда рождает монстров. За полвека на наших глазах возникло множество причудливых функций, которые, кажется, стремятся как можно меньше походить на честные функции, которые что-то делают”. Неинтуитивные функции, неевклидовы геометрии, парадоксы теории множеств стали вызовом и даже оскорблением для канонов математического вкуса. С трудом, но постепенно истинность математического утверждения стала зависеть от его согласованности с другими математическими утверждениями, а не от того, относится ли оно к реальному миру. Опыт по мнению, например, модернистского математика Гильберта, не устанавливает ни существования, ни очень больших чисел. Опора на естественные науки начала считаться “предрассудком” в сфере современной математики, хотя это привело как к монструозным математическим объектам, так и парадоксам, от которых пришел бы в восторг Зенон Элейский.
В общем, математики пришли к выводу, хотя математический, и в частности, геометрический, континуум, плотно связан с пространством, его нельзя базировать ни на кантовской интуиции, ни на эмпирических ощущениях, ни на психологических предрасположенностях. На чем же тогда его обосновывать? Одним из выходов стал отказ от “долга” перед реальностью: можно делать все, что удобно. Другой выход, который избрали многие математики модерна - вывести математику из логики, что получило название логицистской позиции. Вдохновителем этой позиции стал Лейбниц, метафизика которого (по мнению математиков конца XIX века) покоится исключительно на принципах его логики: законе непротиворечия и достаточного основания. Для обоснования всех математических истин достаточно первого закона. Лейбницианцы эпохи модерна утверждали, что математика сводима к логике и что все истины аналитичны,
Модернисты-математики также разделились на реалистов и идеалистов. Идеалисты (прагматисты) хотели сдержать буйство абстрактной математики и призывали работать только с теми объектами, которые полностью постижимы умом. Реалисты (”канторианцы”) за счет признания независимого существования математических объектов не были ограничены человеко-размерностью и потому могли работать с бесконечными множествами. В реальности, конечно, математики дрейфовали между этими позициями.
Физика тоже не стояла на месте. Она становилась более общей, абстрактной и независимой от математики, что раньше нельзя было помыслить, потому что физика невозможна без измерений, а измерения - это числа. Но в том то и дело, что математика модернизма переставала быть простой наукой о числах, само определение числа переосмыслялось: математика и физика начинала работать с неколичественными величинами. Классическая теория измерения находила число или измерение скрытыми в измеряемом количестве (объекте), тогда как репрезентативная теория не предполагает, что числа необходимы, хотя они могут быть привнесены. Возьмем, к примеру, счастье: вполне можно сказать, что кто-то сегодня счастливее, чем вчера, но очень мало смысла представлять, что эти оценки можно превратить в цифры.
Подытожить переход классической математики к современной можно словами Эйнштейна 1921 года: “Как может быть, что математика, будучи, в конце концов, продуктом человеческой мысли, независимой от опыта, так замечательно подходит к объектам реальности? Является ли тогда человеческий разум, не обладая опытом, простым размышлением, способным к постижению свойств реальных вещей? На мой взгляд, ответ на этот вопрос вкратце таков: поскольку законы математики относятся к реальности, они не являются достоверными; и поскольку они достоверны, они не относятся к реальности. Мне кажется, что полная ясность относительно этого положения вещей впервые стала общим достоянием благодаря тому новому направлению в математике, которое известно под названием математической логики, или аксиоматики. Прогресс, достигнутый аксиоматикой, состоит в том, что она четко отделила логико-формальное от его объективного или интуитивного содержания; согласно аксиоматике, только логико-формально образует предмет математики, который не имеет отношения к интуитивному или иному содержанию, связанному с логико-формальным" (цит. по 403).
Последний гвоздь в гроб классической философии математики XIX века забила теория Геделя о неполноте. “Гёдель показал, что любой фрагмент математики, достаточно большой, чтобы содержать арифметику (сложение и умножение натуральных чисел), либо противоречив, либо неполон. То есть, если теория не является самопротиворечивой, тогда будут истинные утверждения, которые не могут быть доказаны внутри системы”. Постепенно его открытие стало ощущаться как освобождение математики от железных оков требований как истинности, так и доказуемости (непротиворечивости, прежде всего).
Поняв, что она не может выполнить оба требования, математика отказалась от претензии на истинность. Нонсенс для классической эпохи. Доказывать истинность, связь с реальностью оказалось слишком обременительно. Стало приниматься во внимание только то насколько теории и доказательства строги, эвристичны, непротиворечивы, полезны и позволяют организовать факты. Вместе с истинностью, математика отказалась от своего единства и объединяющей роли в науке. Но благодаря этому она получила свободу мышления и конструирования логико-математический систем, не поддающихся интуиции. Геометрия освободилась от оков интуиции, числа от оков геометрии. Кантор подарил математикам мир бесконечных множеств, Гильберт - средства для жизни в этой мире и после этого уже никто не мог изгнать математиков из ими же созданного рая. А теория о принципиальной неполноте достаточно больших математических систем подарила этому раю творческий, открытый характер, показав, что математика не может ограничиться механическим выведением формул по заданным правилам.
Тем не менее математика оставалась крайне критичной и вопрос собственных оснований её по-прежнему волновал. Гильберт попытался вывести вопрос об основаниях математики из сферы философии в сферу математики и ввел новую дисциплину - метаматематику, которая должна была давать доказательства непротиворечивости множеств аксиом. Но, конечно, отказаться от философии и метафизики очень сложно: математика отказалась от метафизики пространства и бесконечного только для того, чтобы погрузиться в метафизику классов и функций, как замечает К. Льюис.
История становления современной математики, мне кажется, это не только история обретения независимости от физики и эмпирической реальности, но и от философии вообще, по крайней мере от влияния Канта, который на несколько веков привязал математику к интуиции (геометрию к эмпирической интуиции, а алгебру - к чистой интуиции).
И все же когда математика, казалось, попрощалась с классическим подходом, начинают раздаваться голоса за реальность, истинность, смысл, связь с физикой. Маятник начинает качаться обратно. Часть математиков, принимающих последние изменения, все же считала, что отделение формальной математики от жизни, убивает её, превращает в оболочку. Вейль, например, считал, что у математики нет другого выхода, кроме как снова опереться на физику, но на физику новую, позволяющую говорить о неуловимых для обычной интуиции вещах, иначе математика превратится в чистую игру символами.
В последней главе последнего параграфа автор, наконец-то, приступает к объяснению заглавия своей книги и обращается к вопросу являются ли современными математики платониками или нет. В реальной практике математики говорят о своих надежных теоремах как об истинных, а не просто как о доказанных, и верят в существование независимых от разума математические объекты, свойства которых отвечают за истинность их теорем, что позволяет некоторым считать их платониками. Но если попросить их это доказать, они сразу встанут на более скромные, формалистические позиции. На самом деле, немногим современным математикам важно являются ли они платониками или нет. Однако с философской точки зрения, триумф математического модернизма сделал математиков платониками, так как они обрели независимую от физики, субъекта и эмпирического мира, математическую реальность. Безусловно, математический платонизм похож на классический платонизм тем, что математики, действительно, часто претендуют на прямой ментальный доступ к объектам вне времени и пространства посредством своего рода восприятия, “умного видения” как бы сказал Платон. С другой стороны, мир математических объектов не тождественен миру идей Платона, так как утверждая , что математический объект существует и обладает свойствами, математики часто всего лишь имеют ввиду, что касающиеся его аксиомы непротиворечивы и правила дедукции позволяют доказать определенные свойства. Попытку отделить “научный” платонизм (реализм) от философского предпринял Карнап. Он ввел концепцию “лингвистических каркасов”, согласно которой математик или физик может спрашивать о существовании того или иного объекта в рамках своей теории, своего каркаса, но если он начнет спрашивать о существовании всех сущностей определенного рода в целом, то это будет псевдовопросом. Критерии принятия лингвистических рамок были для Карнапа вполне прагматические: эффективность, плодотворность и простота.
В конце книги Грин подчеркивает, что разрыв современной математики с классической не является тотальным, современная математика столь же преемственна классической, сколь и революционна. Несмотря на переформулировку собственных оснований, математики все ещё инстинктивно опираются на интуицию, физику и реальность, качаясь от произвола и самостоятельности к налаживанию связей и возращению к истине и значению. “Даже современные чистые математики обычно считают, что у них есть выбор в отношении методов, но не результатов. Это явно не модернизм” (563)
На протяжении всей книги, Грин уделяет некоторое внимание внутренней математической и научной “кухне” того периода: кто был с кем был знаком, какие и где должности занимал, в каких журналах печатался, в каких странах были центры силы (в основном это Германия, потом Франция, Англия, Италия, США. “Русский след” тоже присутствует, но слабо)