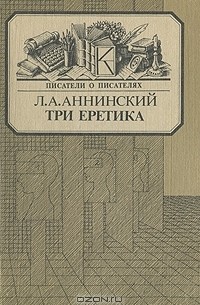Нон-фикшн (хочу прочитать)

- 5 195 книг
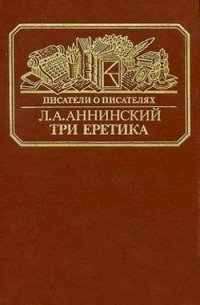
 Ваша оценка
Ваша оценкаЖанры
 Ваша оценка
Ваша оценка
Начинаю понимать, зачем существуют литературные критики. Чтобы писать литературную критику. Лев Аннинский, известный советский литературовед, пишет о трёх «забытых» писателях – Писемском, Мельникове-Печерском и Лескове. Здесь нет подробных биографий по типу ЖЗЛ. За такими как раз туда – в ЖЗЛ. Здесь царит мир духа. Мир литературного духа середины XIX века. Биографии писателей даны через историю литературной критики вокруг их основных произведений. А литературная критика 1850–60-х годов – это бурный и непримиримый мир. Водоворот статей Чернышевского, Писарева, Добролюбова, Некрасова, Достоевского, Осипа Сенковского, Александра Дружинина, Степана Дудышкина, Павла Анненкова, Аполлона Григорьева, Варфоломея Зайцева, Григория Елисеева, Николая Шелгунова… Злых нет, все добрые, но прут друг на друга жёстко и жестóко. Непримиримые последователи неистового Виссариона. Они по разные стороны баррикад, но все как будто сорваны с цепи руками Белинского.
Полезное чтение.
Во-первых, зримо видишь среду, куда падает камень нового романа, видишь поверхность литературной стихии, по которой скачет биток запущенного рассказа. Видишь возмущение атмосферы, видишь круги от подпрыгивающего битка, видишь интерференционную картину этих волн и возмущений. Очень интересно следить за последовательностью критических мнений, за схватками, которые хронологически неспешно разворачивает перед нами Аннинский.
Во-вторых, понимаешь, чтó переживали писатели – герои Аннинского в столкновении с критикой. Обычно это была ярость и борьба за своё имя. Ведь все три писателя – сложной судьбы, которых била и отлучала от литературы прогрессивная критика, а привечали консерваторы, да только наши герои туда неохотно шли, а если шли, то всё равно держались особняком – «перпендикулярно всем течениям». Прогрессивная критика била за то, что все трое принадлежали к антинигилистическому направлению (были постепеновцами), а потому попадáли под мощный перекрёстный огонь нетерпеливцев, которые гнали птицу-тройку Русь вперёд, к революции… И ведь догнали птицу-тройку до «трёх революций» за какие-то полсотни лет. У птицы-тройки уже шла ртом пена от усталости, глаза залились кровью от одурения бесконечным гоном, сбитые ноги уже заплетались. Но вот коренная наконец-то порвала финишную ленточку, и «Россия кровью умылась»…
В-третьих, повышаешь эрудицию. Названия журналов того времени, их направление, их редакторы и основные критики – всё это многократно повторяется, названия и имена запоминаются, и ты уже будто живёшь в те годы, уже готов с нетерпением ждать очередную книжку «Отечественных записок»» или «Русского вестника», чтобы разрезать их страницы и прочитать то, что станет славой российской словесности. Или не станет. Но это неважно.
В-четвёртых, на примере трёх авторов, по происхождению провинциалов, хорошо знавших низовую народную жизнь, Аннинский обнаруживает в душе русского человека глубинный земной пласт, допетровскую толщу, нетронутую позднейшими идеями, концепциями и приказами. (с. 149) В результате нетерпеливцы – прогрессисты, революционеры, народники – бились за освобождение крестьян, ожидая, «что из рядов освобожденного крестьянства вот-вот выдвинутся миллионы новых людей, полноправных граждан, и начнется всеобщее нравственное обновление общества», а когда крестьянина освободили, то… кого освободили? На этот счёт, говорит Аннинский, пророчил ещё Писемский: «Мужик, освобожденный от крепости, переплюнет бывших бар в жестокости; привыкший к рабству, то есть к гнету и снисхождению, он и в роли свободного гражданина будет таким: лютым и безжалостным в домашних расправах и решениях сельского круга и сентиментально снисходительным в роли присяжного: все-де мы не без греха». (с. 91)
Аннинский во времена полной гласности (1988) уже мог напечатать такие слова о русском народе, которые стóит процитировать. Ведь все эти глубинные залежи вышли наружу в 1990-е и до сих пор прут и прут, как лава из проснувшегося вулкана. Но пока Аннинский отмечает, что Лесков пошёл куда дальше Писемского и вот что увидел «за фасадом чаемого освобождения», еще до Манифеста 19 февраля 1861 года: «Достоинство личности отсутствует в духовном рабе. Оно убито в крепостном крестьянине, низведенном до положения животного. Да, освобождение снимает вековые скрепы, но на месте свободного и разумного гражданина, которого ждёт общество, появляется что-то неожиданное, неразумное, дикое: хищник, сорвавшийся с цепи. Вековое невежество, отложившееся в характерах людей грубостью и моральной неразборчивостью, вековое рабство, скопившее в них хитрость и скрытность, вековое унижение, обернувшееся мстительной вседозволенностью». И это, пишет Аннинский, «терзает душу Лескова потаённой неутихающей болью». (с. 346) А про роман Лескова «Соборяне» пишет: «Ну, а тихий карлик, защищающий Ахиллу от людских напастей? Тут уж героизм прямо рождается из своей противоположности: богом убитый “калечка”, которого “на свободе воробьи заклюют”, проявляет изумительную отвагу; крепость его достоинства неотделима от той крепости (крепостной зависимости, – апч), которою он огражден во владениях своей всесильной хозяйки. Одно без другого не существует! И умиление, которое испытывает к тихому карлику громоподобный великан-дьякон, – не тайная ли тяга несчастной свободы к счастливому рабству? Тут завязан самый потаённый и неразрешимый узел лесковского раздумья о России. Есть ли однозначный ответ у Лескова на этот веер вопросов? Нет».
А вот какую любопытную выборку описаний русского человека делает Аннинский из романов Мельникова-Печерского: «…гуляет, шатается, за Волгу бежит, в нетях обретается (сейчас это переосмысливается как «в инете обретается», – апч), через пень колоду валит, опаску держит, во спасение лжет, плутует, лукавит, таится, озорует, бунтует, мечтает, ни отказа ни согласья не дает, темнит, в глухую нетовщину впадает, соблазнами туманится, заносится, лясы точит да людей морочит, мертвой рукой обводит, на кривых объезжает, норовит обмишулить, ошукать, обкузьмить, объегорить, объемелить, из вора он кроен, из плута шит, мошенником подбит, дурака он валяет, под богом ходит, казанской сиротой прикидывается, жилит, тащит, нагревает, глаза отводит, ухо востро держит, под ноготь гнет, куражится, ломается, хороводится, блажит, кобенится, орехи лбом колотит, полено по брюху катает, на всё плюет, душу отводит, проказит, себя кажет, слоняется, шмонается, гомозится, гулемыжничает, уросит…» и ключевое слово, «проходящее через все четыре тома мельниковской эпопеи – слово “еретик”»! (с. 211) («Уросить» – см. эпиграф; «нетовщина» – одно из течений в старообрядчестве, Аннинский упараллеливает этот термин с «тургеневским “нигилизмом”».)
Итог чтения романов Мельникова: «Первая, ярчайшая, сразу в глаза бросающаяся, громко кричащая о себе черта русского человека в эпопее Печерского – твердость. Твердость! Крутость!… В основе этой крутой беззастенчивости, этой несдвигаемой определенности, этой проломной безжалостности – ощущение прочного, неотменимого, от веков идущего порядка. Порядок – до мелочей, до последних ритуальных бантиков – скроен, сшит и завязан навеки, и блюдется он неукоснительно… Глубинное и глобальное художественное открытие П.И. Мельникова-Печерского: русский человек потому и укрепляет себя с неукоснительной внешней жесткостью и мелочной цепкостью, что внутри души своей чувствует гибельную, предательскую мягкость; он потому так круто, так крепко сцепляет внешние границы своего бытия, что внутри нет границ, там – гуляющие вихри, неуправляемые и непредсказуемые, там – волюшка и неуследимый простор. Сильнейшие моменты у Печерского-художника – моменты перехода. Из душевной хляби – в обрядовую твердь. Из гибельной жизненности – в мёртвенное спасение». (с. 204)
И дальше: «Мельников-Печерский работает густым наложением красок; и работает-то вроде бы голубыми тонами, но знает, что по чёрному грунту пишет, и непостижимым образом вы выносите из чтения его романа – это знание. Оно-то и мучит. Переворачивает меня – этот переход от безудержного бунта к чёрному смирению. Душу кровавит мне – это наше почти неправдоподобное сочетание святости и изуверства, самопожертвования и самоистязания, ослепительной чистоты и бездонного мрака. Да как же это возможно? – думаешь, читая. Что же это за душа такая, что сама себя так варварски согласна укрощать? Что это за судьба: волю, отвагу, гордыню, любовь – все задавить с такою медвежьей беспощадностью? Где таится неизбежность этого отчаянного самоподавления?» (с. 205)
Сила русской литературы, видимо, в бесстыдстве обнажения души. Это не порнография, а именно выворачивание святости наизнанку, обнажение чёрных глубин… Та самая правда жизни. Ну, чтобы не удивлялись потом…
У Аннинского специфический стиль, к нему некоторое время привыкаешь. Он не слишком заботится о читателе. И впрямь: тот, кто читает такие книги, справится. Он дайджестирует первоисточники, вставляет прямо в них свои вопросы и возгласы. И после первоисточников даёт своё мнение, свой анализ, свой результат, которые сильны и вбивают в голову читателя чёткое представление о писателе и его основных книгах. Да, Аннинский последовательно концентрируется на главном. Он рассказывает только об основных произведениях. И этого достаточно. Три писателя – и всего триста пятьдесят страниц. Эта сфокусированность даёт ещё один результат: у читателя руки чешутся тут же прочитать это основное. Нет пугающей многотомности, всеохватности. Но это и не школьного уровня результат. Это предложение к серьезному погружению в глубинный земной пласт, в допетровскую (или уже добольшевистскую?) толщу…
Надо читать, чтобы знать, чтобы бояться самих себя.
Вильнюс. Сквер скульптур около Музея современного искусства в рождественской подсветке. Фото: Анатолий Пчелкин, 24.12.2021




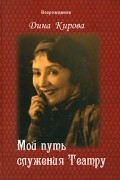










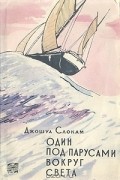


Другие издания