
"... вот-вот замечено сами-знаете-где"

- 39 918 книг
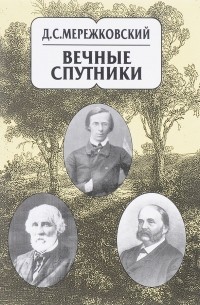
 Ваша оценка
Ваша оценкаЖанры
 Ваша оценка
Ваша оценка
В конечном счете их всегда только двое. Два сознания, две души – открытые друг другу или танцующие замысловатый танец с масками. Писатель и читатель.
Свидетельство другого времени – которое мы еще успели застать. Время зачитанных до дыр детских книжек, бабушкиных шкафов с неожиданными жемчужинами среди пыльных собраний. Небольшие дачные библиотечки, перечитываемые каждое лето. Первые «взрослые» книжки на собственной полке – с гордой подписью владельца, одалживаемые друзьям.
Свидетельство еще более далекого времени – когда читали сложное. Зачастую дети начинали свой путь с лучших образцов классической литературы (книжный шкаф матери был и книжным шкафом ребенка), которые сейчас и у взрослого читателя вызывают недоумение. А тогда – в силу ли неспешности времени? – не боялись ни многословности, ни разреженности сюжета, ни (о ужас!) авторских отступлений и описаний.
Из перечитываний и неторопливости, из обостренного внимания, не распыляемого на информационный шум, рождался тот самый диалог. Удивительное общение сквозь века и страны – и у юных читателей появлялись вечные спутники, сделавшие бы честь и королям.
Не стоит ждать обилия фактов, литературоведческого анализа, здесь только живые и очень личные впечатления, недоумение и восхищение – и много-много поэзии.
Впервые мне было интересно читать о пресловутых «поэтических мечтаниях», тех самых, что
Вот Мережковский в Акрополе, думает о прошедших веках и юном солнце, непостижимой гармонии древнегреческой культуры. Вот, в сыром петербургском кабинете чувствует на лице ветер с римских вилл.
Книга проникнута пассеизмом, модной на рубеже веков тоской по прошлому. «Спящая красавица» Чайковского, «Версальские грезы» Бенуа – сладостный и понятный мне феномен. Это как в Гондоре грустить по Нуменору, если позволите мне такое сравнение.
Снова и снова убеждаемся, что мы совершенно не оригинальны. Мережковский на примере Марка Аврелия формулирует проблему любой веры:
Слабо представляю себе, как можно вписать эту книгу в современный темп жизни. Половина описываемых Мережковским авторов почти не читается (Марк Аврелий, Плиний Младший, Кальдерон, Монтень, Майков).
Другая же половина, наоборот, слишком замусолена и слишком прочно утверждена в списках «100 самых важных книг» - настолько, что их никто по-настоящему и не читает. Это Пушкин, Гончаров, Достоевский, Сервантес.
Но представьте себе на минутку, что весь живой ум Пушкина – только для вас. Не для отписки в школьных сочинениях и «до дня рождения Ал-Сергеевича осталось», а только для вас.
Может быть, именно Мережковский сможет помочь вам в этом – восстановить диалог с автором, увидеть в писателе не шута, а собеседника.

Мережковского, даже если отвлечься от содержания литературных изысканий, читать сплошное удовольствие. Мягкое, плавное повествование. Он не спорит с читателем, не утверждает каких-то истин, не убеждает в правильности своего мнения. Он рассказывает так интересно и увлекательно, что, поневоле, слушаешь раскрыв рот. Вот, например, мне совершенно безразличен Плиний младший, но Мережковский так «вкусно» рассказывает о нём, что забываешь о своём равнодушии. А уж если писатель в числе тобой читаемых, а паче любимых, да ещё твоё восприятие его творчества совпало с твоим – удовольствие получишь незабываемое.
Да, мнение Мережковсого во многом субъективно. Но именно этим оно и ценно. В «Вечных спутниках» находишь для себя не растиражированные истины из учебника, а личный, передуманный-пересмотренный взгляд на писателя, на его творчество. Под этим взглядом «общество мёртвых поэтов» становится живым, родным, близким и понятным. Даже если тебе кажется, что уж Достоевского, Тургенева, Толстого и Пушкина ты зачитал до дыр, и нового про них и про их книги не скажешь. Скажет, ещё как скажет, и тем самым удивит, а иногда и поразит.
Расширилась моя симпатия к Дон Кихоту, ещё больше влюбилась в Гончаров, нашла ещё повод «усомниться» в Тургеневе. Просто дышала Достоевским и Пушкиным. Открыла для себя Майкова, захотелось полистать томик его стихов. Разве это не самое главное?

Перед каждым, кто надумает читать эту книгу, откроется удивительная галерея из 13-ти портретов, написанных всемирной литературой с помощью Дмитрия Мережковского. Портретов, любовно отобранных и оформленных с крайней тщательностью и педантизмом.
Тринадцать, а точнее двенадцать (первый очерк под названием "Акрополь" Мережковский посвящает "духу свободного, великого народа", а не какому-то конкретному литератору. Эллинам, создавшим Акрополь, Парфенон, Пропилеи и прочие памятники архитектуры и искусства, так вдохновлявшие автора) личностей не так уж много, чтоб не перечислить их всех разом: неизвестный автор "Дафниса и Хлои", Марк Аврелий, Плиний Младший, Кальдерон, Сервантес, Монтень, Флобер, Ибсен, Достоевский, Гончаров, Майков и Пушкин. Все эти люди совершенно разные: творцы разных эпох, жанров, судеб. Но Мережковскому удаётся их объеденить. Практически каждого он рассматривает сквозь призму одного-двух произведений (часто - ключевых в творчестве каждого отдельно взятого поэта/писателя). В каждом, без исключения, очерке видна аналитическая работа, которую, на поверку, вёл не один автор: большинство статей изобилуют отсылками к мнениям современников, оценкам других критиков. Так, например, самым насыщенным (и самым объёмным - шутка ли, четверть от всего объёма книги) разнообразнейшими мыслями, оценочными суждениями, цитатами, фактами является очерк о Пушкине. Для меня он стоит особняком, так что хоть хронологически Пушкиным замыкается цикл статей сборника, я хотела бы сказать о нём в первую очередь.
По большому счёту, это и есть тот тезис, тот краеугольный камень полемики Мережковского со всеми, кто придерживался подобного мнения. Нет, не был Пушкин пуст и легкомысленен. Лёгкость - это вообще не о нём. Непростая жизнь, непростое, выстраданное творчество - вот каким рисует нам автор этого "великого мыслителя, мудреца".
Чтоб раскрыть всю суть одной-единственной статьи понадобится отдельная рецензия, ведь в её ткань вплетены Достоевский, Толстой, Тургенев, Гончаров, Флобер, Гете, Байрон, Данте, Магомет и это еще далеко не все, кто высказывается или же просто упоминается в пушкинском контексте. Количество упомянутых персоналий, равно как и произведений, с помощью которых Мережковский анализирует "беспечного армазасского Сверчка, Искру" свидетельствует о монументальности "пушкинского духа в нашей литературе".
Мережковский - не просто ключник, открывающий двери в очередную залу, и приподнимающий пыльную завесу над очередным портретом. Он (и, кажется, настало время об этом сказать) - тонкий знаток человеческой души и, бесспорно, литературы. Его отдельные цитаты так точно передают самую суть, что я уже минут 20 бьюсь над тем, чтоб приписать что-то своё о "Дафнисе и Хлое", но лучше, чем уже сказал автор, всё равно не скажу. Так что в этом случае (и ему подобных, а такие будут) просто приведу, проникающие в самую суть, цитаты.
"Дафнис и Хлоя".
Марк Аврелий. Эпоху Марка Аврелия Мережковский называет осенним днём. Самого же его рисует правителем, предпринявшим попытку сделать человечество мудрым. Пусть это длилось недолго и снова увенчалось победой человеческой глупости, но ведь дало же нам великое литературно-философское произведение - дневник Марка Аврелия.
Плиний Младший. Живший среди ужасов домицианового Рима, описавший извержение Везувия и гибель Помпеи, "открывающий своё сердце с благородною простотой" - он по праву занимает своё место в галерее вечных спутников.
Кальдерон. Придворный поэт короля Филиппа IV, "величайший гений эпохи" - как сказал о нём Лопе де Вега, драматург великой нравственно-религиозной идеи.
Сервантес."Дон Кихот" - произведение, как оказалось, которого Сервантес стыдился. Говорил о нём скромно и даже робея, как о в шутку написанном романе. Ставил выше него свои посредственные стихи, и уж точно не осознавал всей его гениальности. Но при всём этом, описывал идальго и его верного помощника используя все краски - от ярких эффектов до самых нужных полутонов. Ну и пару противоречивых слов о главных героях:
Монтень. Бесстрашен и искренен.
Флобер. Выше жизни ценил искусство, да и в принципе, - только искусство и ценил.
Ибсен. Человек сложной судьбы, выброшенный своим отечеством, а потом снова им подобранный. Одновременно он и классик, и романтик, и натуралист.
Достоевский. Говорить о Достоевском можно бесконечно, но я, пожалуй, не стану, да и не смогу. Сажу только, что Мережковский выбрал ключевым произведением "Преступление и наказание". Сравнивал ФМ - с Толстым и Тургеневым.
Гончаров. Первый великий юморист после Гоголя, оптимист в отношении смерти, "понимающий поэзию прошлого".
Майков. Мережковский говорит о Майкове как об одностороннем поэте, но в то же время его повсеместное подражание античной поэзии называет точным и исполненным чувства меры.
Все тринадцать спутников из книги Дмитрия Мережковского вряд ли встретились бы в таком составе у кого-то еще. Я думаю, что таким галопом проскакав по разным эпохам, странам, жанрам, можно не просто устроить себе ликбез по некоторым авторам (для меня таким оказался Майков), но и примириться с литературой, понять как в ней всё устроено, изнутри произведения пощупать того, кто его создавал. Во всяком случае, именно такой мне показалась эта книга.

Говорят, Тургенев — западник. Но что значит — западник? Это ведь только бранное слово славянофилов. Неужели же мы всем существом своим не чувствуем, что Тургенев — не менее русский, чем Л. Толстой и Достоевский? Ежели Петр и Пушкин — истинно русские люди, не в презренном, шутовском, сегодняшнем, а в славном, подлинном смысле этого слова, то Тургенев — такой же истинно русский человек, как Петр и Пушкин. Он продолжает дело их: не заколачивает, подобно старым и новым нашим «восточникам», а прорубает окно из России в Европу; не отделяет, а соединяет Россию с Европой. Пушкин дал русскую меру всему европейскому; Тургенев дает всему русскому европейскую меру.

Ты, солнце святое, гори!
Как эта лампада бледнеет
Пред ясным восходом зари,
Так ложная мудрость мерцает и тлеет
Пред солнцем бессмертным ума.
Да здравствует солнце, да скроется
тьма!
Вот мудрость Пушкина. Это — не аскетическое самоистязание, жажда мученичества, во что бы то ни стало, как у Достоевского; не покаянный плач о грехах перед вечностью, как у Льва Толстого; не художественный нигилизм и нирвана в красоте, как у Тургенева; это — заздравная песня Вакху во славу жизни, вечное солнце, золотая мера вещей — красота. Русская литература, которая и в действительности вытекает из Пушкина и сознательно считает его своим родоначальником, изменила главному его завету: «Да здравствует солнце, да скроется тьма!» Как это странно! Начатая самым светлым, самым жизнерадостным из новых гениев, русская поэзия сделалась поэзией мрака, самоистязания, жалости, страха смерти. Шестидесяти лет не прошло со дня кончины Пушкина — и все изменилось. Безнадежный мистицизм Лермонтова и Гоголя; самоуглубление Достоевского, похожее на бездонный, черный колодец; бегство Тургенева от ужаса смерти в красоту, бегство Льва Толстого от ужаса смерти в жалость — только ряд ступеней, по которым мы сходили все ниже и ниже, в «страну тени смертной».

Стих Майкова изумительной точностью, чувством меры и неподражаемой пластикой напоминает античных поэтов.
Впрочем, Майков — истинный классик, не только по форме, но и по содержанию.
Если понимать классицизм как известную историческую эпоху, то, конечно, его поэтические образы и формы для нас — невозвратное прошлое, и нет ни малейшего основания стремиться к ним. Зачем употреблять образы мифологических богов, в которых никто не верит? В этом смысле подражания древним всегда должны казаться фальшивыми и холодными. Подражание, например, китайскому или японскому стилю может быть предметом изящного ремесла, но отнюдь не высшего художественного творчества. В подделке под что-нибудь, что было когда-то живым, а теперь превратилось в прах, всегда заключается ложь.
Но почему же каждый чувствует, что подражания древним — такие, какие встречаются у Гёте, Шиллера, Пушкина, Мея, Майкова, непохожи на искусственные подделки, что они столь же искренни и правдивы, как произведения на темы из живой действительности?
Это объясняется тем, что классицизм умер, как известный исторический момент, но как момент психологический — он до сих пор имеет большое значение.
Античный мир в самых совершенных художественных образах воплотил ту нравственную систему, в которой земное счастие является крайним пределом желаний. Христианство протестовало против античной нравственности: оно противопоставляло земному счастью — счастие неземное и бесконечное, устремило волю человека за пределы видимого мира, за границу явлений. Спор христианской и античной нравственности до сих пор еще нельзя считать законченным. Классический взгляд на земное счастье как на крайний предел человеческих стремлений, возобновляется в позитивизме, в утилитарианской нравственности. Тот же самый протест, с которым первые христиане выступили против античного мира, повторяется в требованиях противников позитивной нравственности, в их желании найти основу для долга не в одном стремлении к временному счастью.
Пока в душе людей будут бороться эти два нравственных идеала, пока люди будут с тоской и недоумением спрашивать себя, на чем же им, наконец, успокоиться — на земном счастии, или же на том, чего не может дать земля, до тех пор красота классической древности, как совершенное воплощение одной из этих точек зрения, будет сохранять свое обаяние.












Другие издания


