Бумажная
579 ₽
Это бета-версия LiveLib. Сейчас доступна часть функций, остальные из основной версии будут добавляться постепенно.
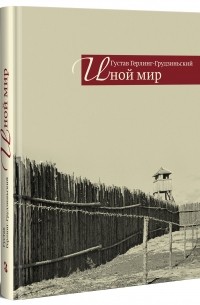
 Ваша оценка
Ваша оценкаЖанры
 Ваша оценка
Ваша оценка
На обратной стороне ветхого издания, что я читала, помещен портрет писателя и короткое пояснение о книге. Среди прочего написано это: «Свое пребывание в так называемом «ином мире» Густав Герлинг-Грудзинский описывает с чрезвычайной простотой, трезвым пониманием действительности и безукоризненным художественным вкусом». Вот это «безукоризненно» привлекло мое внимание. Разве можно в литературе достичь чего-то подобного? Ведь язык, художественные средства, метафоры и образы – индивидуальны, субъективны и идеал (безукоризненность) не достижим, хотя бы потому что каждый видит этот мир по-своему. Максимум на что может рассчитывать читатель, это богатый язык, красочность, яркость, реалистичность. И то… Для кого-то это будет излишеством, тем более, когда речь идет о жизни заключенных. Мемуары на то и мемуары, чтобы быть предельно близки к окружающей действительности, документальной хронике с его бытовым языком. Но оказалось, что это не так. И о ГУЛАГе, о зэках, о лесоповале и лагерной жизни можно написать ярким языком. А безукоризненность достижима тем, что эти описания образны и органичны.
Больше всего в мемуарах Герлинг-Грудзинского мне понравились описания людей.
«На голове у него был беретик, а шея, закутанная в шерстяной шарф, только подчеркивала мясистые губы, налитое кровью лицо и глаза-черносливы, вклеенные в пухлые щеки, как в высохший пирог, и разделенные носом в форме крупного огурца»
Это могли быть описания внешнего или какие-то выводы о человеке по его походке, поведению.
«Сама она никогда и никому на болезнь не жаловалась, но по ее медленной, осторожной походке, по движениям, контролируемым с неустанной и напряженной бдительностью, по манере говорить в растяжку – по всему было видно, что ее внимание сосредоточено на каком-то страдании, которое, словно плохо затянувшаяся рана, открывается от каждого резкого порыва»
Эту книгу очень легко читать, да. Но еще ее читать интересно и увлекательно (это я не про сюжет, как вы понимаете, а про стиль). Эстетика языка...
***
Я читала «Иной мир» и твердила себе как мантру – «Нельзя сравнивать авторов. Нельзя сравнивать книги». Я знаю, что это не корректно и неправильно. Как можно сравнивать авторов и содержание, если опыт в корне разный, если каждый прожил по-своему и написал по-своему. Но ничего не могу с собой поделать. Я сравниваю «Один день Ивана Денисовича» и «Иной мир». Первое – художественное произведение. Второе – мемуары. Первое – отечественного автора, второе – польского. Первое – классика, общепризнанная и бесспорная. Второе – да, в свое время наделавшая шума в Европе, но у нас в стране опубликована в 1990 (на русском была издана в Лондоне в 1989). И я в самом деле ничего не слышала об авторе, он не настолько известен, чтобы быть на слуху (хотя я конечно, не показатель, но все же). В общем, сравнивать никак нельзя, но я сравниваю. И это для меня важно.
Я вспоминаю как рвалась душа от Солженицына. Истязание, мучение, ожог. Боль, унижение, голод, страх, смерть. Долгая агония. Солженицын топит в боли, накрывает шквалом страданий, опустошает и сжигает всё внутри. Эту книгу не читаешь, а надрываешь душу.
Я читаю Герлинг-Грудзинского и вижу другое. Боль, унижение, голод, страх, смерть – все то же, что описывал Солженицын, но главное – никто не мучает, не изматывает душу. Польский писатель проживает те же чувства, находится в похожих условиях, он методично описывает распад личности и потерю достоинства, муки голода и разрушение морали, милосердия, покореженную, изувеченную судьбу, но пишет он об этом так, что моя душа как читателя остается цела. Я сопереживаю и прихожу в ужас, но не истязаю себя, меня не раздирает в клочья от боли и ужаса. Герлинг-Грудзинский пишет так, что я могу узнавать, слышать, сочувствовать и сохранить себя.
И я понимаю, что нельзя сравнивать. И что здесь огромную роль играет взгляд «изнутри» и «снаружи» (даже несмотря на то, что в обоих случаях физически оба внутри). Но я сравниваю и в который раз понимаю, почему зарубежная проза, иностранный взгляд на вещи мне ближе. Да, отечественная литература – опыт души, но для меня это пытка. И отчасти поэтому я с 2015 года не могу взять в руки Солженицына, мне слишком тяжело. И поэтому я читаю Герлинг-Грудзинского как близкого мне по духу автора.
«Наш барак выплывал в безлунное море тьмы и, словно корабль-призрак, мчался, каждую ночь преследуемый смертью, унося в своем трюме спящую команду каторжников»

Ну как у всех, так и у него. Голод, холод, смертельный лесоповал, безнадежность.
Похоже, это главный польский свидетель по ГУЛАГу. И Хласко, и Вильк, пишут о нём, как о признанном авторитете, общеизвестном. Вильк начинает свои путешествия по русскому Северу с того, что отыскивает тот самый лагерь и там находит личное дело Грудзинского.
Всё-таки он представитель рациональной европейской традиции и может оценивать всё, что с ним произошло гораздо более трезво, "с позиции нормального мира", чем наши страдальцы. Грубо говоря, он с самого начала осознаёт, что попал в ад, потому что попал туда из обычного мира, а не вырос в его тени с детства. Книга написана в конце сороковых, когда некоторые из героев, возможно ещё были в живых.
Сама книжка - напоминание о тех, уже достаточно отдаленных теперь временах, когда лагерная литература была "на топе". Мягкая обложка, пухлая бумага, тираж 50 000, цена 6 руб. Переводчик Наталья Горбаневская.

Этому человеку явно было что порассказать о себе и о тех делах, которыми он занимался. Но именно такие натуры обычно четко умеют отделять нужную информацию от ненужной. Не знаю, быть может, его участие в польской организации было еще секретным, он еще не хотел выдавать какие-то тайны, но он практически не говорит о том, как именно был арестован. О своей жизни после освобождения из лагеря он рассказывает только как искал формирующуюся польскую армию, и все эти поиски еще дышали лагерным духом - зайти к жене сидящего в лагерях, завести роман с партработником, которая не верит происходящему в лагерях, ночевать на битком забитом вокзале, где спят такие же освободившиеся из лагеря (обычно, по бытовой статье с короткими сроками) и небольшое послесловие, когда опять встретил лагерного знакомого. Лишь мельком пару раз упомянет он о своем последующем участии в войне. И уж, тем более, не будет тут длинных лиричных рассказов о детстве, которые часто вставляют в свои произведения другие авторы. Густав же стремится не рассказать о себе, а показать лагерь изнутри. Не пожаловаться на то, что именно он попал в лагерь случайно (хотя мог бы сказать, что, как поляк, имел не слишком много общего с Советским Союзом, и не его бы дело, что там творят коммунисты и что делают со своим же народом), а продемонстрировать всю его структуру, насколько смог ее узнать. Конечно, в первую очередь, он описывает те места, в которые попадал он. Но не только свою судьбу и свое состояние, но и некоторых людей, с которыми он смог сблизиться за время срока, или которые чем-либо запомнились ему.
Поскольку он поляк, не бредивший коммунизмом, мы можем его глазами посмотреть на происходящее несколько иначе. Например, здесь не будет долгих монологов о том, как сложен перелом сознания, как понять что тебя предала твоя же власть. Он пришел снаружи и не чувствует таких терзаний. С другой стороны, нет в нем и яростной ненависти к любому русскому за судьбу Польши. Он пытается идеализировать поляков, но и это у него не выходит, лагерь быстро возвращает с небес на землю. Я бы сказала, что он разделяет человека и государство. Ненавидит представителей государственного режима, но сожалеет о людях, попавших в эту машину, вне зависимости от их национальности. Он готов бороться как волк за свою жизнь, он не позволит растоптать себя просто так, если он погибнет, то в сражении. Но это будет сражение с режимом, чиновниками, а не слабость предательства. Понимая всю систему доносов и стукачества в лагерях, он не принимает ее, не хочет с ней смириться, не готов ее прощать.

"За кого ты так молишься?" - спросил я его как-то, когда не мог уснуть. - За всех людей, - ответил он спокойно. "И за тех, что держат нас здесь?" - Нет, - сказал он подумав,- это не люди.

Если есть Бог - пусть безжалостно покарает тех, кто ломает людей голодом.

— Всегда есть место для надежды, когда жизнь оказывается такой безнадежной, что внезапно становится исключительно нашей собственностью…Вы меня понимаете? Исключительно нашей собственностью. Когда уже неоткуда ждать спасения, когда нет ни малейшей щелки в окружающей нас стене, когда нельзя поднять руку на судьбу именно потому, что это судьба, остается еще одно - поднять её на себя. О, вы, наверное, не можете понять, какое утешение заключено в открытии, что в конечном счете принадлежишь только самому себе — по крайней мере, в выборе виде и времени смерти…




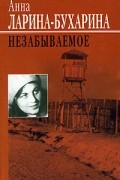







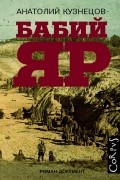



Другие издания


