Бумажная
829 ₽
Это бета-версия LiveLib. Сейчас доступна часть функций, остальные из основной версии будут добавляться постепенно.

 Ваша оценка
Ваша оценкаЖанры
 Ваша оценка
Ваша оценка
Мы с вами живем в России, где возможно все (почти без почти), поэтому перевод книги 1995 года выходит позже перевода книги 2011. Вероятно, так произошло потому, что Москва, четвертый Рим подхлестнула интерес к более ранним работам автора (хотя «Советский роман. История как ритуал» вышел на русском еще в 2002). Кроме того, выход почти подряд второй книги Кларк в издательстве НЛО подраскрывает тайну обложки первой книги – дизайнер хотел сделать взаимосвязанную пару, поместив на обложки символы Москвы и Петербурга. Вот только книги о советской культуре, а на обложках – соборы. Как удержаться от соблазна поспекулировать на тему современной клерикализации?
Довольно вступлений. В своей книге Кларк полифонично рассказывает о пресловутой цветущей сложности революционной культуры. Концепция автора довольно проста и понятна, укладываясь в прокрустово ложе ревизионистского подхода к советской истории – не партия, не Сталин создали социалистический реализм, а яростная конкуренция деятелей культуры, победа одного крыла культуры 20-х над остальными. При этом победители совершенно не стеснялись в средствах. Но это итог, который в известной степени исследовался в «Москве, четвертом Риме». Здесь же Кларк рассказывает именно о той высококонкурентной среде, что цвела с постоянными спадами и подъемами в 20-х.
При этом с известной натяжкой Кларк запихивает культурную эволюцию СССР в Петербург-Петроград-Ленинград, показывая как миф этого города преломлялся и переосмыслялся революционной культурой. Меня больше впечатлила картина постепенного упадка значения – столица переехала в Москву в 1918, но учреждения науки и культуры перебирались, дробились, возникали параллельно и плодились до середины 30-х, хотя тенденция была заметна почти сразу. Кларк умело подчеркивает, как смена парадигм (к тому же она почти приписывает авторство теории научных революций не Куну, а Замятину) отражалась в произведениях культуры – например, как менялось место действия известных книг. В 20-е это еще Петроград-Ленинград, вспомните хотя бы Месс-Менд , Аэлиту и Гиперболоид... .
Кларк часто пользуется эволюционными метафорами для культурных процессов. Она сравнивает советские зигзаги в культурной политике с теорией прерывистого равновесия, рассказывая (увлекательно и познавательно, далеко не все произведения я читал, слышал или видел, хотя по названиям почти все знакомо) о многофакторной (из-за наличия большого количества прямо конкурирующих групп деятелей) жизни города и страны через предреволюционную эпоху (сколько здесь 1913 года!) к военному коммунизму, к раннему НЭПу, к повороту середины НЭПа, к пролетарской культурной революции первой пятилетки, к возврату старых форм в 30-е.
Готовьтесь к вороху имен – от Шкловского к Пиотровскому, от Радлова к толпе из ТРАМа, к музыке Шостаковича – от «Болта» к «Леди Макбет…», к попыткам реконструировать внутренние мотивации Мейерхольда и Евреинова. Автор постарается донести до вас ощущения первых массовых зрелищ победившей революции (не забыв упомянуть их царских предшественников на историческую тематику), расскажет о пике их популярности в 1920, погрузит вас в десятилетие празднования Октября. Всего очень много, книга и правда полифонична, даже симфонична порой, Кларк позволяет себе довольно много оценочных, непроверяемых суждений, но трудно не впечатлиться, не поддаться течению, которое несет тебя через годы и смыслы. И хочется бросить все и читать «Цемент» Гладкова и «Петербург» Белого («Месс-Менд» и Трест Д.Е. я, к счастью, уже осилил), хотя бы пробежать через все эти изводы красных Пинкертонов, одним глазом посмотреть все эти ранние фильмы Козинцева и Трауберга. Ибо есть в этой ранней советской культуре что-то притягательное, необычное, не ограничивающееся экспериментом и ломкой привычного.
Проглотил я и главу о Марре. Все карикатурные изложения его теории так бредовы, что совершенно невозможно понять – как в них верило большое количество в остальном вроде бы адекватных людей. Собственно, даже Кларк это смущает, да так, что она отказывается отказать некоторым обобщениям Марра в истинности, говоря, что где-то, на самом дне было в его построениях сокрыто рациональное зерно. Яснее мне, правда, от этого не стало.
В процессе чтения я раскопал и любопытный факт о сталинских высотках – и в книге о Москве, и в книге и Петербурге, упоминая их, Кларк пишет о них как о «свадебных тортах», заставляя переводчика делать сноску, ибо у нас так их не называют совсем. Оказывается, это довольно распространенный на Западе термин, применимый не только к сталинской архитектуре, но и к Нью-Йоркским зданиям, например. Все дело в явно выделяющихся ярусах и украшениях. Всегда любопытно, как что-то отражается и преломляется.
Права, права Кларк, говоря о лиминальных переходах в советской культуре. Сейчас кажется, что нельзя было не видеть, что все эти большие устремления временны и быстро сменятся реакцией, откатом, хранящим в себе возможность нового подъема. А им-то, людям, ставшими для нас уже функциями и символами, казалось что многое из этого навсегда.

Прочитала работу Катерины Кларк о Петербурге до и после революций 1917 года, где цепочка Петербург-Петроград-Ленинград анализируется как культурная столица империи. Книга была опубликована еще в 1995 году в издательстве Гарвардского университета, поэтому непривычная академическая лексика поначалу давалась сложно. Упрощая, одна из центральных идей исследования — проследить процесс формирования Большого стиля сталинской эпохи, то, как из хаоса конфликтных модернистских практик страна пришла к порядку модернизма тоталитарного, кто влиял на эти процессы и по каким причинам.
Анализируя символистский роман Андрея Белого «Петербург», Кларк пишет: «Можно сказать, что культура сталинизма появилась отчасти как попытка повенчать петербургский миф (главный светский миф российской национальной идентичности) с марксизмом», это выжимка мякотки. Кларк очень подробно описывает противостояние новосозданных культурных институтов за право исключительной революционности: сторонников народных и пролетарских театров с МХТ и прочими пережитками буржуазной культуры, РАППа с россыпью небольших и автономных писательских объединений, борьба за упрощение и кампания «Сумбур вместо музыки».
Отдельно Катерина Кларк изучает влияние НЭПа на культурную среду Ленинграда, уже не столичного города. По ее мнению, как и сами революции были рождены и выпестованы российской культурной образованной интеллигенцией, так и движение «От демократии к тоталитаризму» было возможно и осуществлялось ее руками из-за исторического неприятия интеллигенцией рынка, суровых рыночных отношений. А власть, которая в годы военного коммунизма обеспечивала лингвистов, режиссеров, писателей, художников, архитекторов, музыкантов пайками и должностями в революционных комитетах и артелях, просто создавала условия для этого движения. Либерализация экономики закрыла значительную часть революционных театров, урезала тиражи революционных книг и в целом «опошлила» среду. Неудивительно, что окончание этого времени было воспринято интеллигенцией положительно.
В книге имманентно присутствуют сравнения с формированием якобы аналогичной по форме модернистской диктатуры в Германии после 1934 года, активно работают приемы «заднего ума».
Отметила для себя несколько интересных книг, которые Катерина Кларк активно вводит в контекст работы:
Виктор Шкловский, «Место футуризма в истории языка»;
Вениамин Каверин, «Скандалист», «Художник неизвестен»;
Юрий Тынянов, «Литературный факт»;
Федор Гладков, «Цемент»;
Юрий Олеша, «Зависть»;
Мариэтта Шагинян, «Месс-Менд»;
Федор Панферов, «Бруски».

Одним из важных аспектов перепланировки Москвы в 1930-е годы, о котором в то время много говорили, была очистка города от ларьков и "лавочников". Интеллектуалы наконец нашли своего "Христа", который изгнал торгующих из храма и очистил город, ставший храмом светской религии, то есть культуры.

Забавно, что и гурийский диалект, и кельтские языки Марр включает в яфетическую группу. Вся его теория иногда кажется фантазией, мечтой, в которой отец и мать наконец могли бы понять друг друга, хотя бы в далеком прошлом.

Авангард не сошел с позиций романтического антикапитализма, потому что большинство авангардистов выступали именно против капитализма. Отсюда ясно, почему, например, французские сюрреалисты упорно оставались членами ФКП, даже когда стало очевидно, что партии они не нужны; почему экспрессионисты участвовали в коммунистических восстаниях в Берлине и Мюнхене; и почему Илья Эренбург, романист-экспериментатор и завсегдатай мест, где собиралась парижская богема 1920-х, мог в здравом уме служить ксенофобскому сталинскому режиму и сочинять в годы холодной войны ядовитейшие антизападные сатиры. В каждом из случаев основным мотивом было глубокое неприятие капитализма и его влияния на культуру.







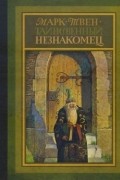










Другие издания
