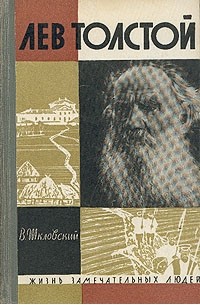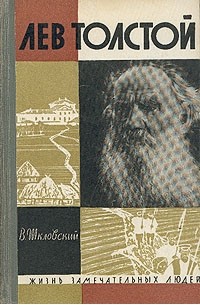Книжные ориентиры от журнала «Psychologies»

- 1 629 книг

 Ваша оценка
Ваша оценкаЖанры
 Ваша оценка
Ваша оценка
Когда умер Толстой, семнадцатилетний гимназист Витя Шкловский выбежал на Невский проспект посмотреть на рабочую демонстрацию. Хмурые лица, одинаковые серые пальто, людское море и редкие конные жандармы, жмущиеся к гранитному пьедесталу памятника Екатерине. Крики: “Долой смертную казнь! Долой самодержавие!”. Мало кого так провожали: уход Толстого из Ясной Поляны, скоротечная болезнь, смерть взбудоражили не только грамотную публику, а весь народ, бредивший разными идеями, но сходный в одном – так дальше жить нельзя. Об этом написал Толстой, это запомнилось юному Вите Шкловскому: гений писателя способен вызвать революцию. Совсем скоро всё и случилось – и при активном участии самого Шкловского, совершавшего переворот не только в жизни, но и в литературоведении: романы Толстого, то безупречно стройные, то величаво перекошенные послужили отправной точкой формалистических поисков школы ОПОЯЗа. Биография же писателя, вышедшая спустя полвека после бурных событий молодости Шкловского, подводит итог его “приближению” к Толстому, но текстологии и анализа здесь немного – рамки жанра и дух времени обязывают дать портрет классика в стихии народа. Книга получилась, потому что хитрый Шкловский пишет не только об этом.
Разумеется, в начале обязательный эпиграф из Ленина (“матёрый человечище”) – примета оттепельной биографической литературы, романтизировавшей революционеров и упрощавшей философов. И никуда не деться от знаменитого определения: “зеркало русской революции”, которым основатель Советского государства “пристегнул” графа Толстого к прогрессивной литературе. Касаясь взрывоопасной темы толстовского мировоззрения и религиозности, Шкловский осторожен и избирателен. Крестьянская утопия всеобщего трудового братства, тоска по дореформенной России, практические шаги Толстого, такие как помощь голодающим и основание сельской школы, понятны читателю и вызывают сочувствие, выписаны они подробно. Симпатии Л.Н. к сектам молокан, увлечения старообрядчеством и проповедями крестьянина Сютаева, вера без Церкви упомянуты постольку-поскольку; также в тени остаются Чертков и толстовцы. Биографу интереснее трансформация политических воззрений Толстого, который начинал с увлечения декабризмом и особой ролью дворянства в просвещении России, а пришёл к полному отрицанию власти и мечтам о “муравьином братстве человечества”. Так как подобный путь проделала вместе с Л. Н. и значительная часть русского образованного общества, правильнее называть Толстого “зеркалом русской эволюции”. Впрочем, вряд ли граф грезил о счастье для каждого и “небе в алмазах”. В его жизнеописании, даже у Шкловского, который не мог, очевидно, сказать всего, поражают какой-то упрямый эгоизм и отсутствие сострадания – следствие “самопостроения”, жёсткого взращивания личности: Я смог, Я преодолел, а вы как хотите. Пожалуй, изображение внутреннего роста Толстого, возникновения гения из таланта составляет главную ценность книги. Кое-что читатель может примерить и на себя.
В 27 лет Толстой считал свою жизнь конченой. Он уже добился некоторой известности повестью “Детство”, но было ощущение какого-то тупика, бессмысленности службы, невыносимости быта глухой кавказской станицы. Дневники Л. Н. (как здорово, что всю жизнь вёл он их!) беспощадно самокритичны, полны вызовов, заданий, споров с собой, с окружающей действительностью, с жизнью в широком смысле. Рядом, подспудно, чувство, что где-то живут по-настоящему и знают какую-то другую правду вольные казаки, смелые горцы, трудолюбивые мужики на Волге. Он же знал лишь быт дворянский, тихое детство, излишества юности, знал и бесконечное копошение людей и людишек в погоне за очередным чином – ему нужен был выход, и он нашёл его на Малаховом кургане Севастополя. Толстой-писатель начинается на войне – до этого были лишь пробы, хоть и исключительные – и пишет как никто до него не умел. “Севастопольские рассказы”, “Казаки”, наконец “Война и мир” – поиск возможностей существования в России – и это война, подвиг, побег или скитания, выход за границы своего сословия, мировоззрения, опыта, слияние с огромным внутренним течением народной жизни, которое существует словно бы за спинами героев-дворян. Видеть привычные вещи по-новому – Шкловский назвал это эффектом “остранения”, в наше время сказали бы “3D-проза”, но важны не термины, а впервые возникшее в этих книгах ощущение полнокровной жизни. Толстой убедителен даже в обманчиво счастливом финале “Войны и мира”, потому что сам ещё верит в силу семьи, корней, в величие страны, которая уже неумолимо менялась.
Почему-то мало обращают внимания, что Толстой после Севастополя испытал ровно то же чувство, что и любой вернувшийся с войны, а именно разочарование в мелочности обыденной мирной жизни в сравнении с всеобщим героизмом на фронте. Он мечется – охота, светские знакомства, поездка за границу, нигде он своим не стал, а перессорился со многими (даже с мягким Тургеневым), опять упёрся в какую-то невидимую стену. В дневниках вновь лихорадка – битва с собою и в конце поражение (?), женитьба на Софье Андреевне Берс, попытка обретения семейного счастья, попытка стать “как все”. “Не она”, - написал Толстой в первые дни их супружеской жизни, но чем провинилась юная жена его? Не оценила масштаб личности? – оценила, и ещё как, любила и ревновала безумно до конца дней (поражает взгляд Софьи Андреевны на мужа на фотокарточке в честь сорок-какой-то там их годовщины – любовь, обожание… граф даже не смотрит в её сторону). Не помогала? – полжизни посвятила его литературным делам, освободив его время от непременной писательской “текучки”. Не “выполняла супружеский долг”, быть может? – тринадцать беременностей её ждало (последняя в 44 года!) и восьмерых взрослых детей она содержала под крышей большого дома, где Толстой работал во флигеле в полной тишине, чтобы не беспокоили. Вся вина Софьи Андреевны была в её обычности, не смогла она дорасти до великого мужа, дойти до его горизонтов мысли, отсюда и яд поздних “Смерти Ивана Ильича”, и “Крейцеровой сонаты”, и Левин, который от “счастья” семейной жизни хочет покончить с собой. Кажется, не было ничего символичного в уходе Толстого из Ясной Поляны поздней осенью 1910 года – заела грызня за наследство, толкотня толстовцев, склока жены с Чертковым – всё последствия его выбора “простой” жизни, его поражения. Он не смог уйти тогда, в 35 лет, теперь уж было поздно. Кто же сможет, если даже гигант Толстой не сумел?
Шкловский суров, где-то несправедлив к Софье Андреевне, награждая её одной из самых беспощадных характеристик:
Она не понимала его мировоззрения, и Шкловский не прощает ей “торможения” Толстого на “пути к народу”. Здесь больше ревности к своему (и общему) великому учителю, нежели правды. Биография Шкловского подробна, почти тактильна по остроте восприятия личности Толстого, когда чувствуются даже предметы, относящиеся к любимому объекту изучения: от зелёного кожаного дивана, на котором родился Толстой, до пружинной кровати на станции Астапово, где он скончался. Здесь плеск волн великой реки и воздух башкирских степей, смех яснополянских детей и неумолимый стук поезда по рельсам железной дороги – всё живёт, всё говорит. Это жизнеописание, которое выходит за привычные рамки, превращаясь в огромный роман о связанном цепями титане, который (как утверждает притча в финале) обрушил храм старого мира. Любите вы Толстого или ненавидите – книга Шкловского поможет лучше его понять. Не скажет она только, что делать со всем толстовским опытом “построения себя” – тут каждый должен решить сам для себя.

На самом деле хорошо, когда книгу о незаурядном человеке пишет тоже незаурядный человек. Виктор Борисович Шкловский прожил интересную жизнь, написал много книг и был прототипом персонажей других писателей. Получилось, что один "коллега" написал биографию другого "коллеги". Книга и является своеобразной беседой - биограф не исключен из повествования, наоборот, он активно комментирует и произведения, и взгляды, и некоторые эпизоды из жизни Льва Николаевича через призму собственного видения, в чем-то с ним спорит. В биографии много отступлений - размышления о прототипах и личностях, исторические справки, комментарии к уже существующим жизнеописаниям Толстого. Книга получилась не летописью жизни, а ее аналитическим субъективным разбором, что сделало ее еще более интересной.
За исходную точку для анализа, которую Шкловский постоянно устанавливает и утверждает, взят тезис, что жизнь писателя лучше всего проявляется через его творчество. Поэтому биография Толстого построена как диалог его реальной жизни с его произведениями - как то или иное событие в жизни писателя повлияло на ту или иную тему, сюжет, роман и т.д. и наоборот. И здесь следует отметить, что лучше понять эту книгу получится у того, кто читал все разобранные Шкловским произведения Толстого. Так даже получится интереснее - у меня еще очень свежи воспоминания об "Анне Карениной", и мое собственное видение романа очень сильно отличается от трактовки, предложенной Шкловским. А вот с "Войной и миром" и "Детством" мы совпали. Но, наверное, зная точку зрения Шкловского, воспринимать "Воскресение" и, например, "Хаджи Мурата", я буду уже по-другому, чем если бы делала это с "чистого листа".
И книга Шкловского, как еще одна прочитанная мною в этом году биография - "Диего и Фрида" Леклезио, выводит читателя на более высокий уровень обобщения. Если у француза получилась история о Мужчине и Женщине, то у Шкловского - трагическая повесть о Гении и его окружении. Я слова плохого не скажу о Софье Андреевне - женщина, которая столько раз переписала четыре (!) тома "Войны и мира" заслуживает только уважения. Дети Толстого тоже вряд ли были плохими людьми. Я думаю, что нам, обычным людям, было бы очень приятно со всеми ними общаться. Ключевое здесь - "обычным людям". Обычным людям не дано понять гения и дать ему то, что ему было больше всего нужно. Они пытаются только спустить его на свой уровень, потому что подняться к нему невозможно. А это гения и мучает. Поэтому комфортнее всего гению с теми, кто не учит его жизни, а просто оставляет в покое с самим собой. Конфликт гениальности и обыденности- ключевой конфликт всей жизни Толстого, который он разрешил своим уходом из Ясной Поляны, о котором мечтал столько лет. Компромиссы с обыденностью его мучили.

Толстого все время, пока читала, было жаль. Маленького его обижали. На елке у знатных московских родственников подарили плохонькие подарки. Осиротел. Юношей беспутничал, страдал от этого и снова беспутничал, и жаль было, что страдает и что беспутничает. Молодым мается, мечется, ищет места, и такое чувство, что - лузер, лузер, лузер. Опять жаль! Потом нашел место, началась работа и Сонечка. И то, и другое - очень тяжело, неподъемное. Мильон терзаний, поиск, поиск, мучительный поиск, мучительный... Сонечка подросла в Софью Андреевну, подросли также детки, алчные сволочи, и стало вообще невыносимо - и Льву Николаевичу, и мне от жалости к нему. Это с одной стороны.
А с другой, на фоне жалостливой этой картины развернулось другое, как ни пародоксально, не менее эпическое полотно: жизнь Льва Толстого как могучая, но тщетная попытка вырваться из сетей бытия "обыкновенного", оернувшись этими сетями, для надежности, в несколько слоев. Решить вопросы, которые нельзя решить. Заглянуть в лицо Бога, когда Он не хочет, чтобы смотрели. Необыкновенное, обреченное своеволие.
Получился гигант, которого жалко. Нет, не Прометей, потому что огня он не добыл и не мог добыть.
Причем этот гигант находится и бьется как-будто в каком-то удивительном вакууме, где-то в запределье, и связь с остатним миром очень слабая. Он сам по себе, мир сам по себе. Иногда они обмениваются письмами. Это впечатление разбивается описанием сцены отъезда старого уже Толстого из Москвы. Получился занятный эффект: я вместе с Толстым удивилась. Он сказал, что после этого случая тщеславие в нем шевельнулось. Я подумала, знать, не зря жил: многотысячная толпа молчит, как един человек, чтобы расслышать те несколько слов, что старик произнесет, а у него от этого тщеславие всего только шевельнулось!
Софья Андреевна - однозначное зло. Ни одного ласкового слова не нашлось для нее у Виктор Борисыча. А жаль. Взял бы со Льва Николаевича пример.

Леонтьев, как филолог, был человеком безнадежно устаревшим, министра просвещения Д. Толстого он вдохновлял на борьбу с "язвой материализма" при помощи изучения греческой грамматики и мифологии.

Освобождение должно было прийти через то, что люди перестали бы верить в нелепость — в привилегии.
Большинство должно было перестать служить меньшинству. Но большинство приходило в сознание единицами, и эти единицы гибли.
Общее решение большинства, отвергающее старое, называется революцией, но революция — это насилие, а насилия Толстой не признавал.

который в этом доме познакомился с Толстым в апреле 1884 года:
«Вырубленный задорным топором, он моделирован так интересно, что после его, на первый взгляд грубых, простых черт, все другие покажутся скучны». Дальше Репин начинает разбирать лицо Толстого как художник-портретист, отмечает надбровные дуги — большие, низко поставленные уши, широкий, смело очерченный рот, с энергичными углами, спрятанными под львиными усами. Середина губ плотно и красиво сжата. «Внешние манеры военного, даже артиллериста. Склад его тела: кости — отростки мыщелков — прикрепление сухожилий; рабочие руки большие, несмотря на длинные пальцы, были «моторными» с необыкновенно развитыми суставами — признак мужицкий: у аристократов в суставах руки пальцы тоньше фаланг… цвет толстой кожи — терракоты, прозрачность аристократической кожи, белизна, синеватые жилки — все эти признаки чистого аристократизма отсутствовали».












Другие издания