Поэзия.

- 49 книг
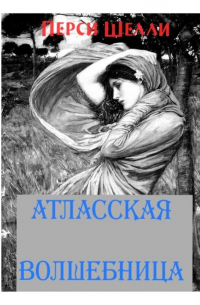
 Ваша оценка
Ваша оценка Ваша оценка
Ваша оценка
Мне стыдно об этом писать..
Этим нежным пороком, я не занимался, со школьных времён.
Но.. разлука с моим смуглым ангелом, лунная ночь и безумная тоска по любимой, и томик Шелли в постели, сделали своё дело: сердце.. рука — дрогнули.
Я не смог сдержаться. Мне очень стыдно.
Прочитав в поэме Шелли дивные строки:
Я перелистнул страничку назад, и, прошептав: простите меня, Перси и Мэри, но я очень люблю моего смуглого ангела.
И на этих словах, я зачеркнул ручкой, в начале поэмы — посвящение Мэри Шелли, и.. написал милое имя моего смуглого ангела.
Понимаю, что это вандализм.. но красота этой поэмы, её неземная грация… почти равны красоте моей возлюбленной.
Быть может впервые в истории посвящения, Шелли устроил нежную перепалку с Мэри, в конце, всё же, нежно помирившись с ней и постелив поэму к ножкам Мэри, словно — крылья.
Давно известно, что крылья у мужчин, созданы не для полётов — так думают дилетанты, а для того, чтобы покорно стелить их к ножкам женщин. Желательно — одной.
Правда, мой смуглый ангел? Потому что любовь окрыляет.
Мэри опубликовала поэму через два года после гибели Перси.
Она защищала поэму от критики, но.. нежно оговаривалась, как бы беседуя с духом своего милого Перси: почему, милый? Почему ты не создал нечто в духе твоей гениальной трагедии — Ченчи?
Эту поэму не поймёт толпа.. она слишком нежна и воздушна для неё. Она.. сама любовь.
В поэме всего 20 стр. Кто не знаком ещё с волшебством Перси Шелли — может начать с неё, и понять, почему Мэри Шелли было стыдно, до слёз, когда её ценили больше Перси Шелли, когда любимый уже погиб.
Образами и чистым гением поэм Перси Шелли, вдохновлялись Вирджиния Вулф, Цветаева, Бродский, Бернард Шоу, Ахматова, Рахманинов, Эдгар По, Набоков, Пастернак, Сартр, Данте Габриель Россетти и Уотерхаус, Махатма Ганди: для них всех, имя Шелли, было связано лишь — с Перси.
Жаль, что сейчас, имя Мэри, известно больше её гениального мужа.
Данная поэма близка мне ещё и потому… что была задумана ровно в день рождения моего смуглого ангела, и через пару дней, написана влёт — всего за три дня, в благословенный август 1820 г, в Италии.
В предисловии к поэме — тоже, в стихах — чувствуется нежная обида Перси, на Мэри: она упрекала его за бессюжетность некоторых его поэм.
Перси, справедливо отвечает ей, что в творчестве, как и в жизни, не нужно сравнивать исполинов сюжетности, похожих на слонов или Кедры, с мотыльками: только для наивного человека, слон, кажется чем-то более прекрасным, чем мотылёк.
У Шелли другими словами написано, разумеется.
Глупо ведь думать, что красота Войны и мира, прекраснее игривой красоты шёпота влюблённых на вечерней лавочке или легкокрылого стиха?
Да чего далеко ходить? Носик моего смуглого ангела — столь же прекрасен как сонет Петрарки, как второй том Войны и мира и как мелодия Blank & Jones — Counting Clouds (solo Piano).
И кому в голову придёт обвинять носик моей возлюбленной, в бессюжетности? Он гениален..
Что-то я свернул с тропинки рецензии, в травку. Простите.
В этом смысле, Шелли прекрасно иллюстрирует свою мысль, что усердие в искусстве, да и в любви и жизни, иногда — грех, т.к. утрачивается нечто невесомое и непосредственное, словно именно об этом и говорил Христос: кто не обратится в детей, не войдёт в Царствие небесное.
Данная поэма — чистый лунатизм красоты и сердца Шелли.
Перси Шелли и в жизни страдал лунатизмом, и порой, по ночам, бродил по крыше дома, к ужасу Мэри, тоже, бродящей вслед за ним (в ночнушке).
Иногда это напоминало свидание лунатиков на крыше.
Почти как у нас, правда, мой смуглый ангел? Мы встречаемся с тобой тайно, на крыше рецензий, стихов.
Ты - в своей лиловой пижамке читаешь мои стихи, а я в стихах, рецензиях.. как обычно — голый, в плане чувств.
Впрочем, ты меня быть может уже давно не читаешь. И быть может.. я стою на крыше, голый, с букетом цветов.. а рядом со мной, на крыше, стоит голая, седая старушка и улыбается.
Лунатики, блин.
Забавно это. В мире, у Мэри сложилась репутация принцессы феминизма, а у Перси — чуть ли не монстра, благодаря не очень умным и не очень образованным людям, пишущим статьи «из интернета», не пользуясь первоисточниками.
Мало кто знает, что Перси — был феминистом, куда более глубоким, чем Мэри, и более преданным последователем учения матери Мэри, умершей при её родах.
Данная поэма, фактически — Евангелие феминизма..
Но не того оголтелого, от которого, как от полтергейста в ночи, шарахаются и мужчины и женщины и.. кошки.
Нет, это самый нежный и даже фантастический феминизм, на стыке с христианством и поэзией, потому что прежде всего говорит об исконном феминизме — души.
Если душа не будет свободна, то всякий феминизм будем местечковый и быстро выродится, и самые понятия пола, свободы, гендера, мечты, жизни — будут условными и изувеченными.
Для Перси Шелли, как и для Блока, в основе мира лежит (стоит?) — Вечная Женственность.
И звёзды и травка апрельская и тайна искусства, религии, человека — пронизаны Вечно Женственным.
Учение в о Вечной Женственности в философии Соловьёва, Андрея Платонова, в Серебряном веке в целом — эквивалент квантовой физики: тронь цветок, и на лице женщины появится улыбка.
Вот сейчас, на клавишах ноута, мои пальцы шевелятся.. как у лунатика, нежно играющего на кошке — прелюдию Шопена, и в этот же миг, в Москве, где-то на 23 этаже, в своей легендарной, лиловой пижамке, улыбается одна прекрасная женщина.
Ну разве не чудо?
Хотя.. это ведь квантовая физика. Быть может улыбается и обнажённая седая старушка, робко касаясь своего носика.
Ох уж эта квантовая физика!
Иллюстрация к поэме Шелли - Уильям Белл Скотт.
По своему забавно, что Шелли, всю жизнь считавший себя атеистом, подписываясь в гостиницах именно так, к улыбчивому ужасу Мэри и постояльцев, на самом деле имел фантастическое религиозное мышление, как у Достоевского, Андрея Платонова или святого Франциска: по сути, он был — пантеистом.
В той же мере, он нежно двоился и в плане гендера, а-ля Цветаева: ему равно было тесно и в теле мужчины и в теле человека вообще.
Он всю жизнь словно бы мучился родами какого-то шестого чувства, третьего пола, в котором тело, душа и слова, были бы чем-то блаженно единым, невинным и светлым: стыдится тела, с точки зрения ангелов, так же грешно, как и стыдится голоса, молитвы.
В своё время, Шелли чуть не выгнали из университета. Знаете за что?
Он, юный атеист-непоседа.. вызывал в своей комнате — дьявола.
Смешал какие-то тайные ингредиенты, в колбах, и.. произошёл взрыв. Чёрный дым повалил из окна и наполнил коридор кампуса.
В комнату ворвался перепуганный директор: Шелли, что вы делаете! Вы хотите нас всех спалить?
Черновик поэмы Шелли с его рисунками
Итак, о чём поэма? О таинственной и прекрасной женщине, как это часто бывает в поэмах Шелли, например, в его изумительной поэме — Мимоза (Чувствительное растение).
Жила была прекрасная колдунья..
Но таких сюжетов много, правда?
Шелли — иной.
Словно влюблённый неоплатоник, он помещает свою колдунью — в пещеру Платона, где таятся все сны, видения всех людей прошлого и будущего, где таятся идеи любви, звёзд, вещей — в нежных и мерцающих колбах.
По сути, Шелли гениально срифмовал два древних образа: хрустальный гроб спящей красавицы, и — Пещеру Платона, таким образом, по новому осветив мысль — Жизнь есть сон.
Как она оказалась в своей Пещере?
Складывается ощущение, что она туда скрылась, как первые христиане — в катакомбы.
От кого? Чего? От безумия мира. Шелли снова, нежно бредит, и творит апокриф о том, как когда-то давно, в мире, от кровосмешения появились два равно ужасных близнеца: Ложь и Правда, и светлым душам стало невыносимо жить в мире.
Да, для Шелли — правда, такой же монстр, как и ложь. Есть лишь одна истина этого и иного мира — любовь. Все иные правды, истины — лишь чудовищные прислуги изувеченной основы мира, лишённой бога: потому верить можно лишь одной любви.
Помните известные слова Достоевского из письма брату? — Если бы мне доказали, что Христос — вне истины, я бы предпочёл остаться с Христос, нежели с такой истиной.
Мы как-то недооцениваем эту мысль Достоевского, по привычке, с трепетом просто внимая ей, как чему то -прохладно-грандиозному.
Но если, как Шелли, вместо Христа — поставить, любовь, то мысль Достоевского засияет ещё ярче, ибо осветит — быт.
Если бы этой мысли Достоевского-Шелли мы придерживались в ссорах влюблённых и не только — то в мире бы сбылся бог более ярко и нежно, потому что в ссорах, мы часто верим — чудовищам страхов, сомнений, обид, Эго — но не любви.
Мы словно бы в душе своей, выбираем не Христа, но — «истину».
Шелли — возвращается Вечно-Женственному — её исконный лик, искажённый в веках.
Любовь — колдунья, прекрасная ведьма: она одна. уводит сердце в небеса ещё при жизни, размывая глупые границы морали, тела и души, реальности и фантазии.
Движение поэмы предстаёт как распрямление исполинских, в тысячелетия, крыльев женской души и творчества, в основе которого, тоже — женская грация и волшебство.
Нежно стираются грани искусства и жизни, и душа женщины, словно Беатриче, ведёт читателя к чистой любви, к её бессмертным формам, для которых нет глупых ссор, смерти, обид, сомнений, морали — все эти земные призраки-рабы, не дают на земле, любви — стать собой: исполинским ангелом.
Ах! Зачем женщинам — метла? Это прошлый век!
Каждая женщина знает.. что зажатое между пальцами — «перо», когда она пишет любимому, похлеще любой метлы ведьмы, увлекает её сердце и сердце любимого — к звёздам!
Только женские пальчики могут так изящно оседлать — «перо».
Шелли, фактически ставит знак равенства, между Христом, Любовью и Женщиной.
В лунатизме вдохновения, Шелли рифмует в одну цветущую спираль метафизического образа — Вифлиемскую звезду и Христа.
Т.е. наша колдунья, в томлении сна, мечте о Любви, в чреве своей Пещеры, становится и звездой, приблизившейся к Земле, (Утренняя звезда Венера. Как известно из Библии, Люцифер - был когда то ярчайшей и любимейшей звездой на небе Бога.), и, одновременно — солнцем в пещере: Любовью, к которой, словно волхвы, со всей вселенной, на поклон приходят… ангелы, милые звери, феи, Пан..
Шелли, так любивший животных, именно зверей делает не просто милыми статистами, как в Вифлееме, при рождении Христа, но — Царями: Волхвами: уникальный для искусства, апокриф переосмысления Евангелия, от которого оно только выигрывает, к слову.
Ужасно мило читается, как львица, приводит своих львят-непосед, к колдунье, на поклон, и просит её о милосердии: чтобы она излечила их от безумной и кровожадной «правды» этого мира: т.е., чтобы они больше никого не убивали.
Животные-христиане.. изумительно!
Я в детстве искренне думал, что слова Христа: если обидите малых сих, не войдёте в Царствие Небесное — относится именно к животным, ну и к детям.
Кстати, так думаю и сейчас.
Весь милый и живой космос — у милых, смуглых ножек колдуньи!
Ладно, про смуглые ножки я выдумал. И.. о чудо! Прямо сейчас, в Москве, улыбнулась одна прекрасная женщина, и,быть может, даже прошептала моё имя..
Или старушка седая — лунатик — прошептала, где-нибудь в Урюпинске или в Крыжопле. Такова жизнь.
Но что мы видим? Колдунья — плачет! Она понимает.. что этот прекрасный мир — заражён правдой, ложью и моралью, и ранимая красота не сможет покинуть этот мир, ступив — в вечность, и потому мир и человек обречён на вечные ссоры влюблённых, войны и распятие Бога.
От этой боли о мире, Колдунья словно бы рожает-колдует в Пещере, из льда и огня — ребёночка, дивного гермафродита: Крылатую душу: это понятие у Шелли — не обидное, а напротив — небесное: блаженное смешение мужского и женского начала — вне пола даже.
На самом деле, тут любопытная инверсия символа, если не углубляться в академизм, то этот образ как бы искупает упомянутый мной в начале рецензии образ ущербной расщеплённости близнецов Правды и Лжи.
По сути, Шелли как бы вплавляет образ Христа — в образ Богоматери, как солнце — в янтарь.
С этого момента, это как бы одно божественное существо: Бого-Матерь. Матерь Мира, и Бог, словно Будда, невесомо парящий в её чреве. Он — в безопасности и ни одному монстру больше не распять его!
Далее, мы видим не менее чудесный и немыслимый образ: Воскресение Богоматери, и до боли знакомое по сказке Пушкина (наша русская Одиссея, более чем метафизическая, кстати, хотя о ней принято думать как о детской сказке) о Царе Салтане — путешествие Матери с сыном, в бочке, но у Шелли — на челноке, по Вселенной.
Я так подробно говорю об этом, потому что это не считывается напрямую в поэме. Хочется, как нежный Вергилий, провести читателя по аду и раю поэмы.
Это и правда похоже на какой-то Третий Завет: Мать и Сын, крылатый, просто играя, несут миру — свет и добро.
Животные милые — перестают есть себе подобных. Войны на земле тают, как снег по весне..
Богачи и мерзавцы, во сне, просто потому, что женщина с ребёнком прошли рядом, во сне просыпаются, и, словно ангелы, раздают свои деньги нищим, простят прощения у тех, кого обидели.
Т.е. мы видим нежный апокалипсис от Шелли, а не тот, с громами и новой кровью и муками, которого так ждут и боятся многие.
Разумеется, и к жизни, они проснутся уже иными.
И поссорившиеся влюблённые — мирятся во сне.
Свет любви сияет по всей Вселенной..
Просто потому, что мать и сын — играют и счастливы.
Как просто, правда? В этом смысле, Шелли безумно близок поэтессе Серебряного века, ныне забытой, к сожалению — Аделаиде Герцык. Цветаева её просто обожала. Подарив ей свой томик стихов Волшебный фонарь, она подписала её: Моей волшебной Аделаиде.
Её называли русской Севиллой Серебряного века.
К ней на «поклон» шли многие, доверяя свои самые интимные тайны, и просвещаясь: и Волошин и Цветаева и Белый, Бальмонт..
Пару лет назад у меня был с ней роман. Причём, не с её стихами даже, — с её жизнью и чудесными письмами.
Хочется вспомнить в плане поэмы Шелли, начало дивного стиха Аделаиды:
По Шелли, как и по Аделаиде Герцык, в основе мира лежит божественная игра Матери и Сына, вообще — игра, как высшая форма творчества и любви, разумеется, в своей горней форме, т.к. в низшей — это просто игра страстей и страхов. Пошлость..
Поразительно, как лёгкая поэма Шелли, задуманная как милая фантазия, превращается фактически в самую таинственную поэму 19 века, и колдунья, подобно солнцу в стихе Цветаевой — шагает по городам ночным.
Как туман, рассеиваются человеческие тела, и спящая красавица, понимает во сне, что высший Эрос — это душа, и что скрывать душу, так же безумно, преступно — как и голос, молитву, ибо и душа — тело, как и тело — душа: всё — душа, и и самый мир — душа, если ты любишь. Если любишь — в мире нет больше греха… и смерти.
На одном из уровней прочтения поэмы, она безумно сексуальна, но как-то небесно-сексуальна, словно сама красота цветов, звёзд, занимаются сексом: словно любовь и сама телесность мира, наконец-то стали единой мелодией, словно смуглый ангел, летящей над миром..
Но всё же, самый поразительный образ в поэме, как эхо Ромео и Джульетты, это образ Колдуньи, в своём милосердии, видящей, как мучаются на этой глупой земле, прекрасные лунатики любви и жизни, отличающиеся от других людей, стряхнувшие с себя — ложь и правду этого мира, словно кошмарный сон.
Да, таких людей не понимают в этом мире и они так безумно одиноки, словно находятся на другой планете, холодной и тёмной, кто разлучён с любимым человеком из-за некой лживой и чудовищной «правды» этого мира.
Ах.. наша колдунья, проявляет экзистенциальное милосердие: она даёт им во сне, испить волшебный напиток, и они засыпают.. навечно, ибо смерти — нет (их тела остаются нетленными даже в смерти: в Буддизме, это состояние называется — Самадхи, в христианстве — благодатью. Но Шелли смещает фокус, говоря, что каждый кто любил и страдал от любви на земле — мученик и чуточку святой), ибо творчество их сердец и любви — словно бы взяв за руку, как Ангел, приглашают их в бессмертие, и они таинственно живут в нём, но в ином качестве, не в нелепой «правде» человеческого тела.
Там, они вновь, соединены с любимыми своими, как… травка, нежно соединена с ветром, а сирень — с апрельским дождём.
Грустно, что у этой гениальной поэмы совсем нет рецензий и читателей, и о ней даже никто и не слышал..
Поэма — многослойна. На одном из сокровенных слоёв, образ Женщин-колдуньи, с дивным крылатым андрогином на корме лодки, это, разумеется, образ не только Перси Шелли и Мэри, но и образ всех влюблённых, которые, по сути — одно крылатое существо, которое так часто мучает себя, словно бы не может, как бабочка, наконец то разорвать душный и кошмарный «кокон» «человеческого».
Кто разорвёт этот кокон и станет — одним существом и Любовью, тот поймёт, что поводов для ссор просто нет. нет больше боли и сомнений, а есть лишь одна любовь и единственный закон Любви: чтобы любимый не страдал в этом мире.
Более того, это излюбленный образ Шелли, равно, как образ дуэли у Пушкина, или вечерней травы у дороги, у Гумилёва: где его и расстреляют, в итоге.
Этот образ ладьи, души и ребёнка, есть и в поэме Лаон и Цитна, Юлиан и Маддало (поэма о Байроне и Шелли и истории одной пронзительной любви).
Шелли, словно предчувствует свою гибель: он погибнет в бурю на своей яхте Ариэль, плывя к своей милой Мэри.
И самого Шелли, его друзья, называли — Ариэль, в честь крылатого духа из шекспировской «Бури».
Могила Шелли украшена строкой из пьесы Буря.
Символично, что поэма была задумана в д.р. моего смуглого ангела, и в этот же день, в августе 1822 г, тело Шелли, выброшенное на берег моря, сожгли на костре его друзья.
Шелли светил даже в смерти своей.
Не случайно на его могиле высечено: Сердце сердец.

А то еще иное говорили,
Что в незапамятные времена
Амур-младенец, чуть расправя крылья.
Похитил у кого-то семена,
И на звезде Венере в черном иле
Он семя высадил; прошла весна;
Он омывал крылом, поил росою
И наблюдал за порослью младою.

И вспыхивал на очаге сандал,
Камеди редкостные и корица.
Жаль, что никто из смертных не видал
Огня, что так играет и искрится,
Как растворенный в воздухе кристалл -
Он всем принадлежит, кто им дивится.

И время, и пространство, и стихии -
Все это может быть подчинено,
А также воля и дела людские,
Но тайна, что содержат письмена,
Чужда непосвященным и страшна.