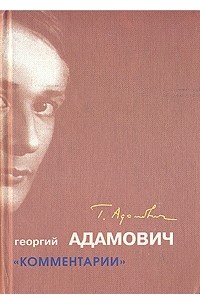Гениальные книги

- 757 книг
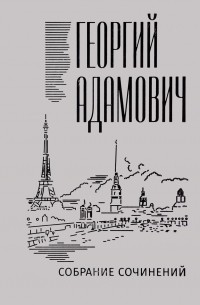
 Ваша оценка
Ваша оценкаЖанры
 Ваша оценка
Ваша оценка
Книга эмигрантского поэта, эссеиста и критика, считается его литературным завещанием. Короткие заметки о главном: о тайне писательства, Толстом и Достоевском, Пушкине, современной литературе и, шире, о судьбах России. Книга небольшая по объему (170 стр.) и емкая по смыслу. Надо читать. Многое через 90 лет всё так же актуально. Многое можно найти для себя. Нельзя пропустить.

Когда-то за воскресным чайным столом в Кламаре, у Бердяева, рассуждавшего с одним из гостей о том, чего Бог требует от человека, и авторитетно, очевидно, с полным знанием дела, растолковывавшего непонятливому посетителю, в чем эти божественные требования состоят, я вполголоса спросил хозяина:
– Откуда вы всё это знаете?
Вот точно такая же реакция была бы у меня на Адамовича, кабы он прочел мне вслух свои «Комментарии», разве что… не вполголоса, нет; ну, сперва я, быть может, и притихла бы, но в какой-то момент сорвалась бы с кресла, схватила его за плечи и трясла, насколько вообще хватит у меня сил сотрясать мужчину. Уже давно не везло мне на столь высокую долю пищи и уму и сердцу на небольшой, в общем-то, площади 56 вордовских листов. Он был ворожей, но без курений, скорее наоборот – ворожей проясняющий. Уже давно не было такой радости узнавания: знаете, когда встретишь вдруг человека, который во многом согласен с тобой, но не вызывает тем самым ревностной неприязни – мое, мол, себе присвоил; меж вами не возникает диссонанса, вы, что называется, на одной волне; это приятно с «живым», «обычным», приятно и с писателем, ибо он умеет облечь «твои» взгляды в не только удобоваримую, но и в донельзя, кажется, совершенную форму.
Мы пошли вместе в штольню, темную, но хранящую сокровенное; он, Георгий Викторович, в одной руке нес яркий фонарь, а в другой – держал мою руку; мы возвращались, волоча за собой драгоценный груз. Или мы вместе ныряли на мутное дно морское, искали жемчужины – всякие разные, совершенной формы – и не очень. И если порой меня самую малость что-то неприятно кольнуло, то ведь он сам:
Об этом верно… но, поймите, я не соглашаюсь с ним, я только нахожу, что по-своему он был прав!..
И если порой он вдруг не лестно отзывался о ком-то, мной любимом, то ведь:
При всем желании не говорить о себе, этого не избежать, когда хочешь хоть что-нибудь сказать не совсем общее. Убрать себя со своей дороги нельзя. Здесь «я» не цель, а средство, не объект, а «призма».
Или:
Помню, во «Всемирной литературе» Блок, после долгих проб и попыток, отказался переводить Бодлера, заявив, что «окончательно не любит его». Меня это озадачило и смутило.
Или:
Единство недостижимо. Его никогда не было и не будет. Каждый мыслитель предлагает свое, личное, произвольное, ни для кого другого не обязательное…
А после штолен и ныряний мы могли и посмеяться:
Ницше сказал о хоре пилигримов в «Тангейзере», что это — «самая католическая музыка в мире».
Вот бы Достоевскому в нее вслушаться, расслышать в ней то, что уловил Ницше: упорство, волю, передаваемое из поколения в поколение согласие на подвиг, готовность нести Крест, отсутствие отречения и предательства…
Впрочем, Достоевский отозвался и о Вагнере по-своему: «прескучнейшая немецкая каналья».
И я понимала, как все на свете субъективно, даже (тем более?) у великих. Георгий Викторович смешил и сам:
Бальмонт: «Я зову мечтателей, вас я не зову». И не зовите, не трудитесь: все равно не пойдем.
Какого ж Воланда я повременила когда-то с этой книгой?.. Он задавался ровно такими вопросами, на которые и я не прочь была найти хоть приблизительный ответ; он рассуждал о революции, как явлении справедливом, но кровавом, об эмиграции не без томящего ностальгического чувства, которое я так люблю прочитывать в стихах, об искусстве и писательском ремесле – истинно со знанием дела; он говорил о христианстве так и таком, о котором думала и я, которого я хотела, но больше предчувствовала, чем могла описать. Согласно розановскому принципу «замок-не/подходящий ключ» мы с Адамовичем совпали; с Розановым было другое дело: я отдавала должное силе и таланту его мысли, но он оставался мне чужд; здесь – не так: не было рисовки – была искренность.
Есть, однако, и опасность: болтовня, розановщина, излишек внимания к самому себе, развязность, кокетство.
Кроме Адамович нарочно будто упоминает дорогие мне имена: Камю, Герцен, Достоевский и пр. В «Комментариях» огромное количество содержится писательских… ладно, пусть будет – баек. И чувствуется, что автор не столько, по его собственному выражению, «призма», сколько – мясорубка: он пережитое пропускает через себя, но пережитое не лучистое и едва ощутимое, а материальное, земное, самое что ни на есть. Смотришь на это мясо, которое веревочками из дырочек вылезает, и веришь этой «животности», «живости» больше, чем нежели перед тобой водрузили бы это в виде дымящейся, вкусной, но уже «сделанной» котлеты. Он туда же:
В статье, в книге одно закругляешь, другое искусственно связываешь с тем, что в связи не нуждается. Нельзя без этого обойтись, как нельзя, идя в гости или на собрание, не придать себе более или менее пристойного, общепринятого вида. Уважение к читателю?
Никто не спорит, к читателю действительно надо относиться с уважением. Но в результате остывшая мысль подогревается, разогревается и выдается за мысль живую.
Или:
Нередко есть фальшь, как во всем, что не найдено, а выдумано.
Я ведь таких громоздких рецензий никогда еще не писала, пожалуй. И с такими, вот, гастрономическими метафорами. И таких гигантских цитат не добавляла (каюсь, друзья по либу, которым все это великолепие приходилось пролистывать); самой жаль было так книгу препарировать (Базарова с его лягушками вспоминает, кстати, Адамович неоднократно) – сколько пришлось и в громоздких отрывках сделать пропусков… но – «не шмолга я, не шмогла»! Кого-нибудь, думаю, может, заденет, а то что это, право, за не пророк, но мыслитель без чести в отечестве своем.
P.S. Критерии «любимости» книги у меня весьма распространенные: уверенность, что в будущем захочу перечитать. Эту в любимые - однозначно: захочу перечитать, и не единожды.

«Комментарии» – сборник литературной критики, если верить определению. На самом деле книга выходит за рамки определения и вширь, и вглубь. Мысль автора быстро устремляется от литературы к извечным вопросам о христианстве, государственности, России и западе, желая охватить всё. По стилю книга похожа на записные книжки – афористичные эссе на пару страниц, по выражению автора - нигде не закругленные, и не притянутые друг к другу.
«Комментарии» освежают восприятие Русской классики, даже не тем, что предлагают какие-то новые углы обзора, а тем, что притягивают читателя к ней, словно бы перенося ее из времени далеко ушедшего в настоящее. Тут вечно мятущийся и гордый Достоевский спорит с Толстым, который при внешнем спокойствии переживает не меньшие перемены. Тут Пушкин не «наше все», а просто поэт.
О другой стороне его работы – не критической, а скорее размыслительной тоже можно сказать много хорошего. Адамович в 1923 году, примерно в 30-летнем возрасте эмигрировал во Францию. И читая его мысли о России, революции и христианстве, вспоминаешь это всегда. Все-таки эмиграция меняет человека. Если кратко – то да, все написанное интересно, замечательно, но не возникает желания спорить или соглашаться, пересказывать тут что-то, надеясь на обсуждение. Как-то все сухо и с постоянной оглядкой на литературу.
Для меня основной минус этой книги в том, что все-таки это литературная критика. Автор постоянно хочет взглянуть повыше, забирается на плечи писателям, но вместо того, чтобы подниматься дальше, он так и остается у них на спине, в любом своем рассуждении опираясь на чьи-то слова. Но такие книжки все равно надо любить и беречь, так как их исчезающее мало. Книг исконно русских, где автор возможно и предвзято, но честно рассказывает об отечестве, о его литературе и судьбе.

У меня нет сына. И, пожалуй, слава Богу, что нет. Потому, что если бы у меня был сын, я не знал бы что ему сказать. Знаете, я всегда представляю себе — хоть на деле это вероятно редко случается, – что в шестнадцать-семнадцать лет мальчик может прийти к отцу и сказать приблизительно следующее: «Папа, ты прожил несколько десятков лет, ты много видел и читал, много думал, скажи мне, что такое жизнь? скажи мне, как надо жить?»
И я не знал бы, что ему ответить. Вероятно, я сказал бы ему то же самое, что сказали бы в таком случае и другие: надо работать, надо иметь идеалы, надо быть честным и смелым, надо уважать чужие мнения. Надо, наконец, «бороться», как принято выражаться: неизвестно, за что бороться, но бороться. Как же в самом деле не «бороться»! Но если бы сын у меня был умный, не такой, от которого можно отделаться прописями, он понял бы, что у меня нет для него ответа. Не только насчет того, что такое жизнь, — тут никакого ответа и не может быть! — но и о том, как следует жить и что важнее всего в этом смысле. Да, я прожил несколько десятков лет, читал, вглядывался и по мере отпущенных мне сил думал. Но чем глубже вдумываюсь, чем больше себя проверяю, тем яснее сознаю, что не могу ни на чем остановиться окончательно. Конечно, надо работать! Конечно, надо бороться! Но… но… и тут меня охватывают такие сомнения, и даже за других, такая усталость от трудолюбивой поддержки всех наших шатающихся устоев, что в конце концов положил бы я сыну руки на плечи и сказал бы: «Не знаю, дорогой! И не верь тем, которые думают, что знают». Если бы он хотел просто-напросто добиться успеха в жизни, рецептов для этого сколько угодно. Но сомнения-то мои именно к успехам и обращены, притом не только в грубых их видах, но и в других. Пожалуй всё таки кое-что я посоветовал бы… Как там сказано: «учитесь властвовать собой»? Так вот, не «властвовать», а «жертвовать»: учитесь жертвовать собой! Не очень собой дорожите, а остальное приложится… Да, приложится, даже если с такими советами, как мои, и умрешь ты где-нибудь под забором, не оставив никакого следа, ни на каком «поприще».

Теперь постоянно приходится читать и слышать, что реализм выдохся. И это верно. Не говоря уж о реализме «социалистическом», почти все книги, вышедшие за последние десятилетия и написанные «под Толстого», «под Бальзака», «под Диккенса», не вызывают ни малейшего сомнения насчет того, что былые открытия превратились в мелкообщедоступные, механизированные приемы. Почти все эти книги внутренне ничтожны. Это, в сущности, «вагонное чтение», с подлинным творчеством имеющее мало общего. Их читают, чтобы «убить время», ни для чего другого.
Но если бы люди острее чувствовали неисчерпаемую таинственность повседневности, реализм мог бы продержаться еще века и века. <…> Достаточно растворить окно, выйти на улицу, сказать два слова со случайным встречным — и при этом, конечно, заставить себя вдруг очнуться от привычного житейского забытья, чтобы ощутить, до чего непонятно наше существование, даже в примелькавшейся своей оболочке. Что это все такое, вокруг нас? Где мы? Откуда мы? Есть какое-то малодушие в бегстве новых художников от непостижимости ближайшей, зримой, реальной во всевозможные сны и выдумки. От реализма к «сюрреализму», хотя бы в самых обольстительных и усовершенствованных его формах.

Какие должны быть стихи? Чтобы как аэроплан, тянулись, тянулись по земле, и вдруг взлетали… если и не высоко, то со всей тяжестью груза. Чтобы все было понятно, и только в щели смысла врывался пронизывающий, трансцендентальный ветерок. Чтобы каждое слово значило то, что значит, а все вместе слегка двоились. Чтобы входило, как игла, и не видно было раны. Чтобы нечего было добавить, чтобы некуда было уйти, чтобы «ах!», чтобы «зачем ты меня оставил?…» и вообще, чтобы человек как будто пил горький, черный, ледяной напиток, «последний ключ», от которого он уже не оторвется. Грусть мира поручена стихам. Не будьте же изменниками.












Другие издания