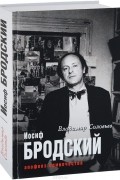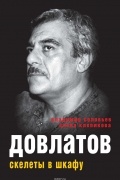"... вот-вот замечено сами-знаете-где"

- 39 918 книг

 Ваша оценка
Ваша оценкаЖанры
 Ваша оценка
Ваша оценка
Сема, за что тебе дали пятнадцать суток? Кидал лебедям хлеб. И что здесь страшного? В принципе ничего, если не считать, что это было в Большом театре на «Лебедином озере».

Раскаяние не оправдывает человека, мы живем один раз и набело, черновиков в жизни нет, как и индульгенций. В детстве мы невинны и потому жаждем справедливости, писал Честертон. Став взрослыми, мы уже виновны и надеемся на справедливость.
В фильме Егор с самого начала окружен трагическим кольцом: чело-век, который от других требует то, чего нет в нем самом. Себя ему жал-ко, других — нет.
Он безжалостен к другим, потому что всю свою жалость израсходовал на себя.
Про него можно сказать то же, что Лев Шестов про героев Достоев-ского: по поводу своего несчастья они зовут к ответу все мирозданье.
Это теория «козла отпущения», и автор ее не Егор Прокудин, хотя и не Василий Шукшин.
Скорее, ее адепт.
Это поиски причины во вне, а не внутри: будто всё, что нас окружает (в том числе государство), не нами же создано, а скажем - марсианами.
Апофеоз этой «инопланетной» точки зрения — в историческом романе Василия
Шукшина, где Егор Прокудин перенесен на несколько столетий назад и назван Стенькой Разиным.
Что же до современного Прокудина, то для него весь мир чужбина.
За мгновение до смерти он с нежностью и тоской вспоминает о тюрьме.
Как тут не сравнить его с «шильонским узником», который сдружил свою жизнь с неволей - навсегда.
Несвободный человек свободен только в тюрьме.
Егора все время подмывает куда-то бежать, бежать без оглядки, куда глаза глядят - только чтобы не остаться наедине с собой: как считал В. О. Ключевский, черта сугубо национальная.
Егору кажется, что можно убежать от себя, но нет таких дорог: позади всадника усаживается его мрачная забота (Гораций).
Все труды человека для рта его, а душа его не насыщается. Здесь уже и ссылка не нужна.
Душевная жажда Егора — от душевной пустоты.
Когда-то Ницше обронил фразу столь же безумную, сколь и цинич-ную: «Человек есть нечто, что должно преодолеть».
Правду Шукшин ставил превыше всего — даже выше искусства. Превыше правды стояла у него только страсть. Она застилала ему глаза, и
тогда он ничего не видел окрест и ничего не понимал. И страсть эта была - ненависть. Вот ее главный аргумент - помните безумного Лира:
...Я не так
Перед другими грешен, как другие -
Передо мной.
Но у короля Лира хватило мужества поймать себя на игре в поддав-ки, на демагогии, на эгоизме: утвердив мнимую меру своей грешности, он через несколько минут корректирует свою мысль - уже не умом, скорее совестью:
Мой бедный шут, средь собственного горя
Мне так же краем сердца жаль тебя.
Вот этого «края сердца» и не хватало часто шукшинским героям и их создателю. В плане художественном это определило слабость его концептуальных построений - по сравнению с его мощным натуралисти-ческим фактографом. У Шукшина хватило, однако, честности дать читателю в том числе и объективный материал против своего героя.
Его героев жалко, но еще больше - их страшно. И не дай бог, кстати, их пожалеть — рад не будешь, костей не соберешь. Возможно, я совершаю незаконную операцию, извлекая героев из художественной структуры и ставя рядом с собой, но сделав так, я прежде всего их боюсь. Того же Егора — на экране я его еще могу жалеть, а в жизни - боюсь. Боюсь алчущей, неразборчиво-агрессивной и пустой его души, боюсь потому, что он способен на все, и его бунт бессмыслен и беспощаден. Я представляю шукшинского героя сослуживцем, соседом по квартире, случайным попутчиком, да просто встречным-поперечным — жуть!
Я боюсь обиды на жизнь его героев. Эта обида - их стимул и кредо.
А обида хуже злобы, она разнонаправлена и не разбирает правых и ви-новатых, но ищет точку приложения для своего непочатого энергетиче-ского ресурса.
Есть у Шукшина рассказ «Материнское сердце». О том, как обманутый в городе деревенский парень Витька накопил в своей груди такую мстительную силу, что, не имея под рукой своих обидчиков, стал крушить налево и направо. Снял ремень с медной бляхой, а в ней еще свинцовая блямба, и давай ею бить по головам неповинных сограждан. Среди прочих угодил и милиционеру. Воистину: не приведи Бог видеть русский бунт - бессмысленный и беспощадный.
Витька, скорее всего, не типичный преступник в обычном понима-нии этого слова, но его социальная дебильность, присвоенное им право на самосуд и слепая сила опасны, и срок он получит заслуженно.
Обивает пороги судебных учреждений Витькина мать, плачет, уби-вается, просит за сына. «Странно, - пишет Шукшин, - мать ни разу не подумала о сыне, что он совершил преступление, она знала одно: с сыном случилась большая беда».
Любовь Шукшина к своим героям сродни материнской.
Его мужество в том, что он избрал весьма трудные для любви объек-ты, ибо чем человек отверженнее, тем труднее его любить.
И тем больше он в любви нуждается.
Человек — любой! — имеет право на сочувствие, ибо agnosco fratrem, узнаю себе подобного. И самое трудное узнать себе подобного в том, кто на тебя не похож.
Возможно, у меня сейчас не хватает таланта - или любви - на такое узнавание.
Я не менее тенденциозен, чем Шукшин.
Размышляя над человеческой бедой — частной и всеобщей, человека и этноса, — Шукшин искал причины вовне. Козлом отпущения он избрал государство, взвалив на него всю тяжесть ответственности за бед-ственное положение современного ему человека.
Государство он рассматривал как сугубо внешнюю, абстрактную и анонимную силу — будто не является оно производным человека, этноса и истории.
Он снял вину со своего героя, возложив ее на государство. Приве-денные им примеры жестокие и убедительные.
Я не знаю, на каком уровне Шукшин сталкивался с государством - цензурные условия были тогда таковы, что он смог назвать всего несколько его представителей, на самой низкой ступени служебной лест-ницы, но и самых влиятельных в глазах маленького человека, ибо страшнее кошки зверя нет - для мышки.
Вот три этих страшных зверя — бюрократ, продавщица, вахтер. Лю-ди, которые выступают от имени государства и именем государства вершат свои дела.
По своей природе и должностной номенклатуре они тоже маленькие люди, супермаленькие, и у них тоже на сердце обида, и именно эта обида сублимируется и реализуется в самодурство и хамство, ибо нет хуже тирана, чем раб.
Свой среди своих, Шукшин знал своим цену. У него было типичное лицо — его узнавали на улице, но долго не могли вспомнить, где видели: на Севере, куда ездили за длинным рублем, или в отделении милиции, или в подворотне, где раздавили одну на троих и тянули из горл?
Таким труднее всего. В магазине, в парикмахерской, в очереди, в конторе — ежедневно, ежечасно ему приходилось сдавать экзамен на право быть человеком и получать пайковый минимум жизни - кулек апельсинов или справку от врача. Куда ни шло еще интеллигенту, хотя и тот хватается за сердце, услышав вежливый отказ чиновника или отборную брань продавщицы. Сами отморозки, своего они ненавидят больше — отмежевываются от него, заметают сходство, мстят за собственное унижение.
Взаимной агрессии Василий Шукшин дал односторонний анализ.
Он написал несколько рассказов о неистребимом хамстве — в магази-не, в ресторане, в больнице: всюду! Герои Шукшина обижаются, озлобля-ются, в ответ, сгоряча, могут наломать дров. Шукшин написал о смертель-ной обиде совершенно бесправного человека, у которого всего-то и есть достоинство, но и оно задергано, растоптано, попрано и уничтожено.
Самый эмоциональный его рассказ — «Обида», когда Сашку Ермолаева унизили на виду у малолетней дочки, унизили небрежно, походя и подло — в магазине. И так получается, что другого выхода у Сашки нет, кроме преступления. Иначе жить дальше невозможно. Потому что эта обида не сама по себе, но в цепи множества ей подобных, больше-меньше, за ней стоят другие, которых она и есть чрезвычайный посол и полномочный представитель. Вся жизнь — обида, а эта — последняя капля в чаше Сашкиного терпения. Бытовая его обида становится обидой политической по окраске и по преимуществу.
Шукшин и сам держал на сердце Обиду. Он написал рассказ «Ванька Тепляшин» о том, как не пропускают в больницу мать к сыну, потому что не приемный день, и как оскорбленный Ванька Тепляшин пускает в ход кулаки, потому что может он — когда доведут — соскочить с заруб-ки. И рассказа этого Шукшину показалось недостаточно, и он написал еще «Кляузу» и опубликовал ее в «Литературке» — за несколько дней до смерти.
«Кляуза» - это не рассказ. Это ябеднический документ. Отчет об инциденте в больнице: к больному Василию Шукшину не пустили друзей — тогда вологодских писателей Василия Белова и Виктора Коротае-ва. Мало того что не пустили - еще и жестоко обхамили всех троих.
Василий Шукшин честно обо всем этом написал, а в заключении привел «кляузу», которую его товарищи послали главврачу клиники.
О, это ябедничество, русская наша исконная, неизлечимая болезнь - какие там лекарства, ничего не поможет и помочь не может...
Крик о помощи - подметные письма: в газету, в ЦК, в ООН...
Вроде бы старая как мир тема. Кто главный человек в России? Око-лоточный — без тени сомнения отвечал Чехов. Помнил ли об этих словах Василий Шукшин?
Ему было недостаточно искусства — он шел напролом: пытался документально обосновать свою тревогу и свою обиду.
Вслед за Сухово-Кобылиным он мог бы сказать, что писал с натуры.
И такое даже ощущение, что искусство ему мешало — он не хотел по-средников между реальностью и читателем. И остро, болезненно ощущая недостаточность имевшихся в его личном распоряжении художественных средств, Шукшин решительно пересекал демаркационную черту, отделяющую художку от реала, и говорил языком самой жизни.
Он был не столько художником, сколько — как и его герои - чудиком, придурком, охламоном: отечественный тип правдоискателя и ультра-правдиста.
Правда в его прозе приобретала значение политического факта и со-ответственно — художественного.
Он ввел в литературу кляузу, жалобу, обиду.
И Обида растеклась по его прозе и по его фильмам и окрасила их кроваво.
Сдерживаемый оптимистическим уставом советской литературы и подцензурным ее существованием, он смог реализовать трагическое свое сознание только однажды - в историческом романе о казацком атамане Стеньке Разине.
Пожалуй, трудно назвать шукшинского Стеньку Разина историче-ским героем — уж очень он похож на обычных, современных героев Шукшина. Такой же «крутой, гордый, даже самонадеянный, несговорчи-вый, порою жестокий - в таком-то, жила в нем мягкая, добрая душа, которая могла жалеть и страдать».
Привожу шукшинскую жалостливую характеристику, хотя по прочтении романа согласиться с ней трудно.
Обычный шукшинский характер, психологический стереотип, пере-несенный в прошлое, чтобы проверить в большом масштабе его наклон-ности и потенции - что же сумеет сделать этот герой, если выпустить его на исторический простор и дать волю и перспективу?
В плане положительном - немного.
В плане негативном — море крови: выброс персидской княжны в на-бежавшую волну — самый невинный из его поступков.
Шукшин написал резко и решительно антигосударственный роман.
Первое, что делал, захватив город, Стенька - жег бумаги: ненависть не только к бюрократизации русской жизни, но и к цивилизации вообще.
Какая, к черту, цивилизация, когда вслед за бумагами Стенька зверски расправлялся с властями предержащими, не делая исключения ни для их жен, ни для детей — и изуродованные трупы плыли по Волге.
Стенька Разин в обрисовке Шукшина - бандит, припадочный, са-дист, изверг, изувер. И тем не менее Шукшин берет его сторону.
«Государство к тому времени уже вовлекло человека в свой тяжелый, мед-ленный, безысходный круг: бумага, как змея, обрела парализующую силу!»
Поразительно, что исторический сюжет романа разворачивается во времена Алексея Михайловича, царя доброго, милосердного, либераль-ного — словно не утолен народом голод по жестокости, и стбит государству ослабить полицейские функции, как этот недобор тут же восполняет сам народ в лютой, неуемной и неутоленной ненависти, тоскуя по резне.
Отнюдь не идеализируя русское историческое государство - вплоть до теперешних дней, — я считаю упрощением валить на него все грехи.
Выбор героев у Шукшина — все равно, современных либо историче-ских — происходил по сугубо личным причинам: по аналогии с собственными раздумьями о жизни.
Вот в чем причина его самоличного появления в своих фильмах в качестве актера: единый по существу, тройственный ипостасями.
Нервные, вспыльчивые, неприкаянные, обидчивые, злые и неспра-ведливые, его герои были плоть от плоти их автора: не двойники, но связаны генетически, из того же теста, того же замеса. Пуповина не разорвана даже когда растянута. Они — не интеллектуалы, думать не при-выкли, но нужда — политическая и духовная — заставляет, и их мозги, как жернова, перемалывают пережитое и перевиденное.
Всерьез и полноценно рассказал про все это Шукшин только однажды - в рассказе «Штрихи к портрету. Некоторые конкретные мысли
Н. Н. Князева, человека и гражданина».
Николай Николаевич Князев, живя в райгородке и ремонтируя теле-визоры, исписал «по совместительству» восемь общих тетрадей своими мыслями о государстве. И к кому бы ни обращался Князев со своими тетрадками, все смотрят на это его занятие как на опасное чудачество, а на его размышления - как на несбыточную утопию.
Шукшиным схвачена важная черта современной ему русской жизни - доморощенное русское правдоискательство, политически акцен-тированное и заостренное.
Для окружающих такой правдоискатель выглядит безумцем - и к нему соответственно относятся.
Между прочим, этот рассказ Шукшина был воспринят скорее иро-нически, чем всерьез — еще один чудик нашелся! В упомянутой уже статье в «Правде» у меня вычеркнули вышеприведенную цитату из этого рассказа, удивившись, что я принимаю героя всерьез. Так испокон веков обезвреживали на Руси правдоискателей...
Собственно, забота Василия Шукшина о том же — чтобы мысли государственного человека Николая Николаевича Князева узнала Россия.
Лбом об стену.
Кто из них наивнее — Николай Николаевич Князев или Василий Ма-карович Шукшин?
Приключения человека и гражданина Н. Н. Князева печально завершаются в отделении милиции, куда его отводят предусмотрительные сограждане, препятствуя совершенно легальному его поступку - по-сылке почтой восьми злополучных тетрадей в центр. Последняя глава этого рассказа называется «Конец мыслям».
Мыслям и в самом деле конец: стопочка тетрадей, на которые Князев потратил семь лет, исписав их своими раздумьями о государстве, — на столе у начальника милиции.
Политический поиск Н. Н. Князева бюрократически пресечен, резко, на полном ходу, заторможен - конец перспективе.
Начальник милиции раскрывает первую тетрадь, которая начинает-ся с «описи жизни»: «...И я, разумеется, стал писать. Я не мог иначе. Иначе у меня лопнет голова от напряжения, если я не дам выход мыслям».
А сколько тетрадочек исписал Василий Шукшин?
Восемь?
Восемь с половиной?
Судьба у него трагическая - внезапная смерть в сорок пять лет.
Один в поле не воин, он не выдержал борьбы за истину, за ее жизненный минимум, который явно не ко двору, но без которого - никак.
Не алкоголизм, а мания правдоискательства привела его к острой сердечной недостаточности: в октябре 1974 года он умер на съемках чужого фильма.
Что касается меня, то я хочу сейчас понять феномен Шукшина, а не возложить на его могилу очередной словесный венок.

Дэзик Самойлов:
«Не случайно такой талант, как Шукшин - злой, завистливый, хи-трый, не обремененный культурой, исполненный лишь неясной самому тоски, — способен стать героем "солоухинской школы" русской литературы и быть принятым многими читателями — от блатных до прекраснодушных докторов наук... Это типичная литература полугорожан, от-резавших себе путь в деревню, уже опутанных и закупленных благами города и главным раздатчиком благ - державой. Они и городские, и державные, утопленные по горло в комфорте, любующиеся своим положением и все же злящиеся и неистовствующие по поводу утраты духов-ного, ощущающие, что комфорт не заменяет духовности, и не умеющие по бескультурью присоединиться к высшей духовной среде города».