Книги в мире 2talkgirls

- 6 350 книг

 Ваша оценка
Ваша оценкаЖанры
 Ваша оценка
Ваша оценка
Не могу похвастаться знакомством с большим количеством мемуаров, поэтому моё мнение может быть несколько неполноценным.
Не ошибусь, если скажу, что большинство из нас знает Сергея Снегова как писателя-фантаста, возможно даже только как автора эпопеи «Люди как боги». Вот и я в пятом классе увидел эту толстую книгу в синей обложке, не думая о полном прочтении, заглянул ради любопытства и не смог оторваться. Тогда «Люди как боги» произвели на меня сильное впечатление. Прошло время, к фантастике я уже обращался мало, но вспомнил вдруг об авторе и решил посмотреть на другие его книги, попались воспоминания, рассказывающие о детстве и молодости Снегова: с 1910 по 1936, до ареста, заинтересовался — не зря.
Книга бытия — довольно объёмный роман-воспоминание. Определение этого понятия я не нашёл, поэтому попробую составить своё: роман воспоминание — это вид мемуаров, в которых сочетаются реальные люди, реальные события с художественной обработкой, не выдумкой, а попыткой где-то приблизить воспоминания к художественной литературе. У Снегова это проявляется в больших количествах подробных диалогов. И хоть память у него отличная (такой только завидовать можно, если будете читать, то поймёте), но думаю, что здесь он, помня общий смысл, пересказывал своими словами. Кроме того, видимо для удобства восприятия, 99,9% диалогов написано на литературном русском языке, а в реальной жизни, о чём упоминает сам автор, большинство его знакомых выражались на дикой смеси всего подряд. Дело в том, что Сергей Снегов (настоящая фамилия — Козерюк, позже Штейн) родился и прожил до двадцати с чем-то лет в Одессе, а это сами понимаете какой город.
У Снегова было три крови: русская, греческая, немецкая, но на протяжении жизни многие подозревали еврейскую, о чём сам автор с печалью писал:
«Кстати, впоследствии я часто жалел, что во мне нет еврейской крови: мне было бы гораздо легче жить, если бы меня считали открытым и очевидным евреем, а не прячущимся жидом...».
В книге очень много всего, это такая сборная солянка, показывающая удивительную и необычную жизнь. Несмотря на провокационное название, Снегов всего лишь человек, обладающий определённым мировоззрением, совершающий временами гадкие поступки, но очень важно, что он не пытается их скрыть; Книга Бытия — это исповедь, честная, восхищающая и ужасающая одновременно. Такой путь много лучше редактирования собственной жизни, чем страдают некоторые, если не почти все, авторы.
Слог у Снегова приятный, летящий, поэтому не надо пугаться объёма, читается легко (с технической точки зрения, так сказать, а не моральной, нравственной, ведь там встречаются вещи, которые легко могут выбить из колеи). Единственный, на мой взгляд, ощутимый минус — это незаконченность, 1936 год — Снегову всего 26, во что сложно поверить, если вспомнить весь путь, например, преподавание в университете с 21 года. Он умер, не успев завершить свою работу, поэтому некоторые сюжетные линии, если это уместно к мемуарам, обрываются, и мы никогда не узнаем дальнейший путь тех людей, о которых писал Снегов.
Времена не выбирают, в них живут и умирают. Сам автор считал своё время неудачным, загубившим множество талантов, его в том числе:
«По сути, эта книга о том, как все мы, щедро одаренные природой, с годами неотвратимо стирались в ничто...
<...>
За долгие годы я опубликовал несколько романов, десяток повестей, три десятка рассказов — а в моем столе лежат сотни стихов (наверное, лучшее из того, что мне удалось совершить), трагедии, драмы и очерки на философские темы...»
Книга Бытия будет интересна даже тем, кто впервые узнал об авторе.
Хочу ещё процитировать дочь Сергея Снегова, написавшую предисловие:
«Папа был обязан рассказать о дореволюционной Одессе, о знаменитой босяцко-бандитской Молдаванке, о буйстве и безумии первых лет революции, о гражданской войне, о голоде начала двадцатых, когда на базарах продавали человечину, о том, как младенчески-наивные и всё-таки прекрасные надежды на то, что ещё чуть-чуть, вот-вот — и жизнь станет просто замечательной, сменились паранойей и манией преследования...»
P. S. Чтобы окончательно определиться, советую почитать отрывки, которые я добавил в цитаты книги.

По сути, эта книга о том, как все мы, щедро одаренные природой, с годами неотвратимо стирались в ничто…

Чем больше я вникал в город, тем очевидней становилось: мне лучше с ним, чем с теми, кто в нем жил. Я не столько знакомился с Ленинградом, сколько старался отвлечься от ленинградцев.

Утро начиналось с молитвы — во всяком случае, наше с Витей утро, ибо, когда мы просыпались, отца с матерью уже давно не было. Молитвой командовала бабушка. Обычно добрая и покладистая, в процедуре утреннего общения с Богом она была строга, как старшина-украинец в казарме. Можно было не умыться (или только сделать вид, что умываешься), но не преклонить колени перед иконой было невозможно. Сначала опускалась на пол она сама, с боков коленопреклонялись мы. Она громко читала «Отче наш» — мы повторяли ее слова и жесты. Витя — без особой охоты и с некоторым недоверием, я — с верой и усердием (мне — в отличие от скептика брата — и в голову не приходило усомниться).
И надо же было случиться, что именно меня бабушка высекла за глумление над символом веры — и это была единственная порка, которую я от нее изведал.
Когда она торжественно начала: «Отче наш, иже еси на небеси…», а мы хором повторяли, она вдруг прервала моление и с ужасом посмотрела на меня:
— Сережка! Ты как говоришь? А ну-ка, повтори! Я охотно повторил:
— Отче наш, ниже виси на небеси…
Разъяренная, она спустила мои штанишки и стала околачивать ладонью зад, гневно твердя:
— Вот тебе ниже виси! Вот тебе ниже виси! Над Богом издевается, разбойник! В кого ты такой уродился?
Витя за меня заступился, я, рыдая, уверял, что и не пытался посмеяться над строгим Богом — бабушка не слушала.
Сегодня, с высоты моих шести десятков, я понимаю: мы все были правы — и она, увидевшая посягательство на священные формулы, которыми слабый человечек должен молить всевластного хозяина, и я, со слезами и божбой доказывавший, что молился искренне и серьезно. Вероятно, в тот день я верил даже больше, чем бабушка, ибо вносил здравый смысл в непонятную фразу «иже еси на небеси».
Что Бог живет на небе — это я усвоил. Что ему ежедневно, перед иконами, громко и внятно надо возносить прошения и мольбы — тоже понимал. Но я уже знал, что отнюдь не все моления будут услышаны — очевидно, владыка слишком вдали, его небесный престол чересчур высоко над землей. И слова «ниже виси», следовательно, были не издевательством, а горячей просьбой занять положение поудобней — чтобы лучше разобрать прошения земных слуг. Они уточняли молитву, наполняли ее живой плотью настоящей, от сердца, веры, превращали бюрократический формализм навсегда затверженного текста в деловой совет меньшого друга, в них была жизнь, а не догма. Бабушке бы порадоваться их глубине, а не прибегать к обидному рукоприкладству, делая задницу ответственной за душевный порыв.




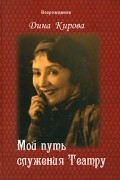





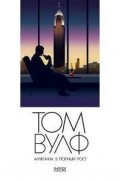







Другие издания

