
Подвиг

- 147 книг
Это бета-версия LiveLib. Сейчас доступна часть функций, остальные из основной версии будут добавляться постепенно.
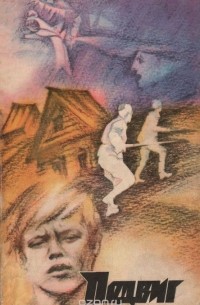
 Ваша оценка
Ваша оценка Ваша оценка
Ваша оценка
Уважаемый товарищ Зазубрин! Дорогой Владимир Яковлевич!
Обращаюсь к Вам со всем почтением. От нашего знакомого я узнала, что завтра, на рассвете, Вас расстреляют. Я решила написать Вам, сожалея о Вашей трагической судьбе.
Владимир Яковлевич, я не знаю, за что Вас осудили. Слухи о Вашем аресте органами НКВД ходили по Москве два месяца кряду. А.В. в моем присутствии сказал, что Вы ни в чем не виноваты. Вы – честный большевик. Поговаривают, что причина – в Вашем творчестве. К сожалению, нам не узнать всей правды. А.В., знавший Вас хорошо, рассказал, что Вы предлагали к опубликованию Вашу повесть «Щепка» (помните, Вы и мне давали ее), но Вам отказали, объяснив это якобы «контрреволюционными» настроениями. Мне стыдно за наше литературное сообщество, Владимир Яковлевич. Они все говорят, очень уж много говорят, но написать письмо в Вашу защиту – о, они на это не способны!
Простите меня за взятый тон. Я решила написать Вам честно. Не знаю, получите ли Вы мое письмо или же оно затеряется в НКВД. Если нынче Вы держите его в руках, знайте же: меня уже нет в живых. Не скорбите обо мне, Владимир Яковлевич. Пожалейте лучше живых.
Я хотела, во-первых, сказать, что Ваша «Щепка» произвела на меня огромнейшее впечатление. Во-вторых, я хотела бы написать о своих впечатлениях от Ваших «Двух миров». Помните, мы с Вами уговорились: я Вам пообещала прочитать «Два мира» за одну ночь. А на другой день Вас арестовали.
Сожалею, Владимир Яковлевич, но в Вашей книге я заметила глубокую несправедливость. Увы, но ожидала я от Вас большего. После Вашей изумительной «Щепки» я ждала прорыва, я надеялась на глубочайшую трагедию, на эпос уровня «Тихого Дона». Плохо говорить так, я понимаю. Но простите меня, жестокую.
Жалко говорить. Я знаю Вашу жизнь. Вы были «белым» офицером, но после Вы исправились, Вы пришли к нам с горячим сердцем. Я была похожа на Вас – пылкая коммунистка, полюбила нашу идею больше себя. И как я за это поплатилась! И Вы, Вы! Нами обоими сыграли. Мы были глупы.
В «Двух мирах» есть поистине замечательные страницы. О, как хороша первая глава! Великолепна сцена, в которой сын-большевик стреляет в своего отца-белогвардейца. А глава с похоронами? Как Вы описали смерть нашего несчастного товарища, которого односельчане, из страха перед белогвардейцами, живьем закопали, и все – на глазах его жены! Эти сцены принадлежат перу талантливого, самобытного писателя! Понимали ли Вы, Владимир Яковлевич, какого уровня талант Вы получили? Очень хороши главы с отступлением «белых». Но я не поняла, что стало с любимым моим героем Барановским. Умер ли он? Или выжил? А ежели выжил, стал ли он нашим?
А знаете, в чем Вы виноваты, Владимир Яковлевич? О, не жалейте меня – я же Вас не жалею, несчастного, хоть и преклоняю голову пред Вашим талантом. Ни слова, ни единого слова Вы не сказали: а наши тоже были жестоки! Не лгите себе перед смертью. С каким удовольствием описывали Вы наших врагов! Нет у Вас ни одного «белого», что верил бы в свое дело. Все «белые» у Вас только и умеют жестоко убивать, насиловать и грабить; они рушат свои же церкви, рвут от скуки книги, жгут, жгут и жгут. Знаю, Вы не сказали ни слова лжи. Но покажи Вы, что не только «белые» умеют так, как бы высоко стояла теперь Ваша книга!
Зачем Вы польстили нам, Владимир Яковлевич? Наши у Вас, малообразованные пусть, но восторгаются искусством, вспоминают театр; они все чисты душою, добры, поголовно за лучшее. А женщины? «Белые» женщины у Вас сплошь продажные, обслуживают, простите, любого мужчину. А наши женщины – высоконравственные, верные своим семьям и нашему делу. Не знай я, как было, поверила бы Вам беспрекословно. Но, увы, я знаю, как было.
Знаете, что тянет нас в бездну, Владимир Яковлевич? Я скажу Вам, потому что моя жизнь на исходе. Ничего мне не сделают за мое признание Вам. А то нас тянет в бездну, что мы любим топтать чужих, а своих за то же оправдывать. Мы привыкли говорить о преступлениях чужаков. Наших врагов. Некоторые у нас до сих пор ненавидят германскую нацию за мировую войну, всерьез рассуждают, что германская нация – порченная, наследственность плохая у них. А читать о наших преступлениях, Владимир Яковлевич, мы не хотим. Мы хотим оправданий.
Вы, Владимир Яковлевич, действовали из лучших чувств. Я понимаю Вас. Вы написали книгу о жестокостях «белых» и справедливости «красных». Вы написали о «белом» терроре. Но Вы не могли не знать о нашем терроре. И Вы не сказали о нем. Знали – но не сказали. Как хороша была бы книга, расскажи она о взаимном насилии! Как хорошо было бы, если бы Вы нам сказали: «Да, мы боролись за правду, и мы пошли на страшные жертвы, и мы тоже были палачами, мы тоже убивали невинных, мы убивали детей наших врагов, мы насиловали женщин наших врагов, мы топили их, расстреливали в подвалах, закапывали их живьем!» Но мы – хороши. Мы лучшие. Мы добрые. Да? И никто не пострадал от наших рук. Разве же это правда?
Нынешняя наша жестокость, Владимир Яковлевич, вышла из наших оправданий. Закончилась война. Что мешает нам жить в мире? А оттого все, что мы не признаем критику. Мы слишком «хороши», чтобы заметить собственные недостатки. Вы, Владимир Яковлевич, поймете меня. Когда Вы принесли им «Щепку», Вашу страшную повесть, уже было поздно. Ваши «Два мира» были им выгодны, а «Щепка» – увы, но ею оказались Вы сами. «Два мира» льстят им. Они любят лесть.
Владимир Яковлевич, я сожалею, если расстроила Вас своим последним письмом. Хотела спросить Вас, не жалеете ли Вы нынче о «Двух мирах». Но Вы не ответите. Я не услышу. Я не знаю, что с Вашим сыном. Переживет ли он? Моего забрали летом. И – ни слова мне долгие два месяца. Вчера я узнала о его смерти.
Владимир Яковлевич, я с Вами прощаюсь. Раньше писала: «Берегите себя». А нынче не знаю, как закончить. С уважением к Вам. Но больше писать нечего.
Ваша Д.Р.

Мы привыкли видеть советских солдат героями. В книгах и фильмах они всегда на передовой. Кондратьев показывает своего Сашку совершенно другим. Не подумайте, он не какой-нибудь там трус! Этого двадцатилетнего парнишку ранило (не в бою) и он идет в тыл, чтобы получить медицинскую помощь.
По пути встречается с таким же молодым немцем. И даже приводит его к начальству, от которого получает безжалостный приказ: "Расстрелять врага!" Наш Сашка мучается, собирается с силами, ищет в себе мужество, ищет повод, но не так и не находит. Такой же молодой парнишка, но с другой стороны, утверждает, что он не фашист. Губы его трясутся - боится быть растрелянным. Наш герой не переживал бы так, если бы начальник не грозился с него самого шкуру спустить за невыполнение... Но обошлось! Остался жив Сашка.
А дальше вспоминает Зину - девушку, с которой случился у него первый поцелуй. Помнит ли она его. Помнит. И вроде бы даже ждет. Пишу неуверенно, потому что жизнь девушки в санроте не такая уж простая. Зина рассказывает о невзгодах, которые Сашку злят. Что творит Зина! Кого называет милым!!! Но наш герой в конце концов ее понимает и прощает. Хотя им обоим всего по 20 лет. Что в этой жизни они могут понимать? О какой ее философии могут судить-рассуждать?
Заходя все глубже и глубже в тыл Сашка видит, что мужчин тут все меньше, зато вроде бы еда цивильная есть. И даже водка с табаком. Это тебе лепешки делать из того, что осталось в поле после сбора картошки в прошлом году! И баня здесь есть, и белье чистое. Мужчин только нет. Все ушли на войну. Многие даже успели погибнуть...
Сашка счастлив свежему хлебу, хорошему табаку, теплой постели. Война сопряжена с героизмом, но и с лишениями. Интересно, Кондратьев и правда между строк прописал то, что Сталин, ввязываясь во все свои политические игры, обрекая народ на страдания, заставляя в том числе армию голодать, ходить голышом и босиком, преодолевать сотни километров в поисках базовой медицинской помощи? Или мне так только показалось, я это хотела увидеть в этой повести?
Сашка не переживает по поводу своей загубленной молодости. И психика его вроде как цела. Это все враги! Их нужно разбить, победить, изгнать из страны! Ну а пока... Пока подлечить руку и навестить маму...

В мае я обычно стараюсь читать книги о войне. Знаю, что не одна такая. На этот раз мой взгляд упал на "Обелиск" Василя Быкова и вот на "Сашку". И последняя понравилась больше, поэтому пишу о ней.
Книга получилась очень теплой и доброй, несмотря на тяжелую тему. Писатель поделил ее на три части - три истории, произошедшие с Сашкой в первый год войны. Сашка - боец, рядовой солдат, ему 22 (или 23) года. Он храбр, умен, и у него большое сердце. Первая история - о пленении Сашкой немецкого солдата, о муках, которые Сашке предстояло испытать, когда решался вопрос, что же делать с этим немцем, который отказывался отвечать на вопросы командования. После такой истории невольно начинаешь уважать Сашку, как это впоследствии делал другой герой книги, лейтенант Володя.
Вторая глава - история любви, куда без нее на войне. История грустная, но уж наверняка очень правдивая. И здесь Сашка показал себя с лучшей стороны.
Третья история больше, чем первые две, показывает жизнь прифронтовых деревень: как тянулись раненые солдаты от одного продовольственного пункта до другого, как есть было нечего, как просились они переночевать в разных деревнях, а их даже и накормить было нечем... Тяжело и грустно, одно хорошо: негрустная у книги концовка, вселяющая надежду, хотя всем нам известно, что до хорошего было еще далеко.
Вот умели писать советские авторы о войне! И я даже не о сюжете говорю сейчас, а в первую очередь о языке: он всегда великолепен, читаешь - будто по реке плывешь, нет никаких порогов и перепадов, течет-струится, красота... Язык этот скрашивает тяжесть от тем, которые поднимают авторы. Поэтому, наверное, я продолжаю читать книги о войне. Хороши они.
А книгу всем советую.

И странно ему все это, и чудно — словно и войны нет никакой!
Словно не бушует, не обливается кровью всего в двухстах верстах отсюдова горящий, задымленный, в грохоте и в тяготе фронт…
Но чем разительней отличалась эта спокойная, почти мирная Москва от того, что было там, тем яснее и ощутимее становилась для него связь между тем, что делал он там, и тем, что увидел здесь, тем значительнее виделось ему его дело там…

Непростое дело человека убить... да безоружного. И ты бы не стал... Люди же мы, не фашисты, - досказал Сашка просто, а лейтенант еще долго глядел ему в глаза с интересом, словно впервые видел, словно старался отыскать в них что-то особенное, пока Сашка не сказал: - Ну, чего на меня глаза пялишь, как на девку. Ничего во
мне нету.

Революция - мощный мутный разрушающий и творящий поток. Человек - щепка. Люди - щепки. но разве человек-щепка - конечная цель.