Домашняя библиотека

- 773 книги
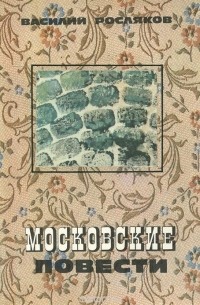
 Ваша оценка
Ваша оценкаЖанры
 Ваша оценка
Ваша оценка
Формально, «Витенька» - роман взросления, роман воспитания. Содержательно - книга «От 0 до 18». Почти Чуковский. Серьезное описание роста и развития, всех заповеданных классикой этапов – детства, отрочества, юности. Читаешь и понимаешь: все точно, все узнаваемо.
Но, как и было выше сказано, здесь книга не об отдельном человеке, а о целом поколении. Все описанное с самой первой страницы имеет не только детально-бытовой или архивно-исторический, но и символический характер.
Виктор. Победитель, выходит. Здесь заложена не столько отцовская воля и неотгоревшая радость недавней победы, сколько жизненная философия автора, мировоззрение эпохи. Дети победителей должны идти, понятно в каком направлении. Но пока не Виктор, Витенька, то есть тот, кто еще растет, кто еще не встал на триумфальную дорогу, кто ищет себя, потому что есть время и условия для поиска.
Родился Витенька в 1953 году. Символизм даты можно не объяснять, которое уж десятилетие нас в нее тычут. То есть речь в романе идет о новом, можно сказать, непоротом поколении. О том, кто слеплен из другого теста, с той старой эпохой не связан никак. О тех, кто пришел на смену. «Его уже обсуждают, хотя в глаза никто не видел».
Есть и другая возрастная маркировка, описывающая одним предложением особенности того периода. То, что было до трех лет, человек не помнит. До 1956 года, стало быть. Цифра тоже знакомая и подчеркивающая беспамятство не только к сталинской эпохе, но и к трехгодичной замятне, случившейся после.
Можно сказать, что в книге нет ничего нового. Все, что попало в поле зрения автора известно из других романов и по собственному опыту. Вот Витенька грудной орет, голос подает. Вот пророчески прудит на папины конспекты: не бывать тебе, отец выше главного механика. А вот «дать-копать», первые слова после «мама-папа». Похороны соседа по квартире дяди Коли и прото-Елизаров: «И закапывать будем, да, папа?». Опять символика – старое с глаз долой. Очарование детской мудрой речи (все-таки Чуковский) и выдержанных в ее рамках диалогов:
- Ты, папа, никогда, никогда не пойдешь на работу?
- Пока никогда.
- Пока никогда никогда?
И детские страхи: «А речка не убежит на войну?»
Дальше следующее по старшинству – подростковые проблемы. Сюжет прям в духе «Смерти сердца» Элизабет Боуэн. Родители читают о себе в дневнике: «Ты погляди, что он пишет про нас с тобой!». Первые успехи, первые разочарования, смерть, любовь Неизбежный кризис юного возраста:
- Учишься как?
- Отметки у меня плохие. Неинтересно мне в школе.
- А где же тебе интересно?
- В общем-то нигде.
- Значит, и вправду устал.
История поколения – история быта. Началось все с Потешной улицы и коммунального домового братства, кончилось трехкомнатной квартирой, Вознесенским, Сартром и ноктюрнами Шопена. Четверть века – путь громадный!
До мельчайших мельчин едва ли не описано. И отсюда вопрос: зачем такая степень детализации известного?
Ответ – в финале. Сказано уже, что роман Рослякова вещь символическая (в герое своем собрал он все характерное в молодежи). «Витенька», если так можно сказать, текст методологический. То есть не просто бытописание (Борис родил Виктора), как думаешь вначале без авторской подсказки. Не фотокарточки мелькающих юных лет на фоне общества и семейства. Книга с идеей. Опыт художественной феноменологии. В гегелевском само собой плане (движение духа, стадии и самопознание в движении и саморазвертывании). Гуссерль и Хайдеггер у Рослякова, как и у его Витеньки, пока только в планах.
Получается просто выглядящая, но хитро задуманная вещь.
«Самопознание духа в становлении и развитии» – этот принцип относится и к самому Рослякову.
Пишет он, пишет роман, и внезапно, словно какой-нибудь Кундера, задумается: а чего это он, собственно, от книги хочет? Как продолжать, как строить? «Чертежи и планы кажутся мне скучными, хотя по ним писал Бальзак… И к черту все эти так называемые мысли, все эти сюжеты, схемы, композиции. И так уже все заварилось с головой: все под сюжеты подстраиваемся, под разные теории, чтобы как можно подальше от живой жизни…»
Сам Росляков, однако, от идеи, как видно далеко не ушел. Но в том и хитрость, потому что писать без идеи – это тоже своего рода схема, идея, теория.
Но во внезапно возникшей посреди романа рефлексии есть не только литературоведческие абстракции. Просыпается в Рослякове вдруг критик (с нее Росляков начинал). Прилетает ремнем по голой жопе, вроде как ни с того ни с сего, современному классику. Валентину Григорьевичу. «Живи и помни». «С первой страницы понятно, чем дело кончится… Но, да, художественно».
Возникает вопрос о смысле. Не только для героя (как и зачем жить?), но и для автора (зачем и что писать?). Вроде нет смысла ни в жизни, ни в романе. Ранние годы Витеньки позабудутся, как будто и не было их. Зачем писал? Дальше будет известное – Витенька пойдет в рост, а родители начнут стариться. Зачем писать?
Вкупе с пассажем о художественности Распутина здесь можно углядеть подступ к фундаментальному вопросу о смысле и назначении художественного творчества. «Зачем нужна художественная литература?» - вопрос не только наших дней. Попытка же Рослякова скрепить художественное целое обращением к нон-фикшн скрепам и элементам демонстрирует – нет ничего нового под Луной, и этими тропами, уже ходили. Нечего кричать о новаторстве.
«Зачем живем? Зачем пишет?» - несовременные и несвоевременные получаются вопросы. Но всегда важные. Потому что отвечать на них всякий раз во всякую пору надо по-своему.
Есть и еще одна не к нынешнему двору, выраженная в романе принципиальная позиция. Главные в воспитании нового поколения – отцы. А в самом новом поколении – мальчики. Девочки, сестра витенькина Лелька, что с нее взять? Наполучала в школе пятерок, диплом, парни вокруг, «я сама», и «своя» квартира от высокопоставленного любовника. На закусь аборт. Вот и вся судьба с жизнью.
Прав или не прав Росляков, тут можно спорить, или отметить как черту канувших в небытие времен – женщина ничего вперед не движет. Вся надежда на русских мальчиков. Но есть оправдание, от которого не открутишься. Женщине некогда, на ней дом, забот полон рот, о себе подумать некогда. Весь спрос с отцов. А им тоже некогда, или не знают они как. Вечная трагедия – дитя без пригляду, растет вроде рядом, а как ветер в поле.
Ну а мы, глядя на описываемое в романе из прекрасного далека, можем быть к герою и жестоки. В Витеньке, при всех его благих толстовских задатках, вся завязь 1991 года, все наши нынешние проблемы – стремление к гуманизму и бесконфликтности.
Но сама иллюстрация вечно повторяющейся коллизии в романе верна – молодежь против системы. Классическое: «Ты, Витенька, не вписываешься в нашу систему жизни».
Здесь можно и огорчиться трагическому разрыву, который всяко приведет к краху любой системы, потому что без перемен, без обновления, без молодых людей долго ничего не простоит (что и случилось в 1991), а старички по духу, хоть и найдутся да все сгноят. Но можно увидеть и вечное творческое противоречие. Не вписывается, потому что не должен вписываться, должен отбросить сложившееся, наскоро скроенное отцами и учительницами. Должен пройти через отчуждение к снятию. Вернутся к деревне, к деду, к примитивным занятиям человеческим, чтоб оставить их и устремится к новому.
Гегельянство, конечно. И от того кажется постфактум, что финал и весь ход романа предсказуем. Исторический оптимизм, далекий от действительности. Очевидно же, если отвлечься от книги и оглянуться вокруг, поглядеть на историю последних десятилетий. К чему вернулся дух витенькиного поколения? Довольны ли они? Все ли сделали что надо для очередного Витеньки? Спросить нетрудно. Ведь росляковский Витенька наш современник. Не так давно пошел на пенсию. Успел еще до поднятия возраста.
Светлая книга, горькая книга. Большие надежды.

Осталось под большим впечатлением от этой книге. Возможно,повлиял тот факт, что сейчас мне столько же, сколько и героям книги. И это заставляет о многом задуматься, именно в такие моменты начинаешь переосмысливать свою жизнь. А что случится завтра? Буду ли жива я и мои близкие?

Его уже обсуждали, хоть и в глаза никто ещё не видел. А он в это время орал в Остроумовской больнице, на большом столе лежал вместе с другими, завёрнутый в простыню, как в кокон, лежал неподвижно и орал, открывая розовый беззубый рот. Он надрывался от страха и обиды, что его оторвали от матери, от теплой его родины и бросили одинокого на этот страшный стол, где тоже кто-то орёт от той же самой обиды.