Автобиографии, биографии, мемуары, которые я хочу прочитать

- 2 044 книги
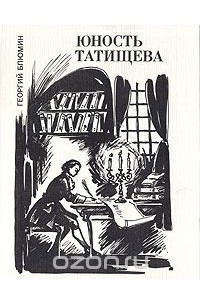
 Ваша оценка
Ваша оценкаЖанры
 Ваша оценка
Ваша оценка
Блюмин Г.З. Юность Татищева : Повесть. –– Л.: Лениздат, 1986. –– 240 с., ил., обл., уменьш. формат. –– Тираж 70.000 экз. — ОЗОН 43 р.
В предисловии автор-журналист рассказывает эпизод из своей жизни: 7 июня 1981 г. он искал могилу Татищева, затерянную в сельской глуши Подмосковья. От железнодорожной станции пришлось проделать довольно долгий путь пешком. Но вот, наконец, заветная поляна, и на ней — «небольшой погост, уставленный решетками и крестами».
Могила В.Н. Татищева (1686—1750). Фото из Сети.
... Надгробье Татищева я разыскал среди могил с трудом. Оно сделано из камня-известняка и стоит среди погоста без всякой ограды, стеснённое со всех сторон чужими, вкривь и вкось поставленными решётками...
... Камень надгробья почернел, выбит ветрами и ливнями, ведь ему два с половиной века. Но на гранях видны ещё буквы. Встаю на колени и долго всматриваюсь в надписи...
Состояние могилы журналисту не понравилось.
... Через месяц я вновь шел в Болдино. Я сделал и нёс на плечах привинченную к железной стойке памятную доску. Снова от Сергеевки — через леса и овраги, через Болдино и Шахматово — вышел к погосту Рождествено. Стойку с доской врыл у надгробья, слева, у куста. Белой краской на чёрном поле доски написал: «Василий Никитич Татищев. 19(29) апреля 1686 —15(26) июля 1750. Русский ученый-энциклопедист, географ, историк, филолог, писатель, математик, геодезист, металлург, этнограф, палеонтолог, дипломат, основатель Свердловска (Екатеринбурга) и Оренбурга, сподвижник Петра Великого».
Содержание сочинённой журналистом надписи в высшей степени красноречиво: здесь и преувеличения, и прямая ложь (к вящей славе Татищева, как полагает автор). Сразу становится ясно, что мы имеем дело с фанатичным поклонником, который будет приписывать своему кумиру подвиги, которых тот не совершал. Со стороны это выглядит нелепо, ибо Василий Никитич Татищев — человек бесспорно выдающийся, с огромными реальными заслугами перед Отечеством. Нет ни малейшей необходимости в преувеличениях и вымыслах. Но фанатики — публика своеобразная: они органически неспособны удержаться от фантазий. А фантазируют они замысловато, ибо начисто лишены здравого ума (таково наказание за попрание заповеди «не сотвори себе кумира»).
Повесть советского журналиста Блюмина о Татищеве — яркое тому подтверждение. С точки зрения чисто литературной это типичная графомания, изобилующая психологическими нелепостями и грубыми просчётами в отборе исторического материала (не говоря уже о банальном литературном дилетантизме, о неспособности к настоящему художественному творчеству). С точки зрения бытописания это обширная коллекция глупых дилетантских ошибок, встречающихся почти что на каждой странице; если перечислять их, будет нудно и скучно. Однако есть аспект, представляюший некоторый интерес: текст повести Блюмина показывает систему представлений о русском сословном обществе конца XVII — начала XVIII вв., сложившуюся в голове типичного советского «образованца» начала 1980-х годов. Причём сложившуюся стихийно, ибо признаков штудирования научной литературы нет («чукча не читатель, чукча писатель»). В сущности, мы видим, как один советский обыватель рассказывает о прошлом другим советским обывателям.
Автор всё-таки пытался повысить свой статус в глазах читателей: в аннотации утверждается, что он обнаружил некие «документы» и даже установил место рождения В. Н. Татищева. Это пустая похвальба: любой дилетант в историческом архиве — как слепой котёнок, и журналист Блюмин не стал исключением.
В книге Блюмина есть две ссылки на архивные фонды. Первая уже в предисловии (с. 10): «Центральный государственный исторический архив Москвы (ЦГИАМ), ф. 4, оп. 14, д. 1875». Здесь Блюмин зачем-то цитирует записки не названного по имени «внука Татищева» с краткими сведениямио знаменитом деде (весьма банальными, не содержащими ничего такого, что представляло бы ценность для профессионального историка). Упомянутый «внук Татищева» (Ростислав Евграфович, в крещении Михаил) историкам прекрасно известен.
Вторая ссылка Блюмина (с. 22) несколько информативнее:
Место рождения Василия Никитича Татищева определено автором по месту жительства крепостного Татищевых Ивана Емельянова (ЦГИАМ, ф.1872, оп. 1, ед. хр. 3). Других владений под Псковом у Н. А. Татищева не было.
Оцените логику нашего автора: установлено, где жил крепостной Татищевых; следовательно, там и родился В.Н. Татищев. Блюмин думает, в простоте душевной, что жёны помещиков рожали только в деревнях, принадлежавших их мужьям. Но если так, то в Пскове, конечно, В.Н. Татищев родиться не мог. И в Москве, конечно, не мог... Что в столице у Никиты Татищева, отца будущего историка, был собственный двор, Блюмин вообще не знает. Как и о том, что Никите Татищеву принадлежало на псковщине множество мелких деревень (для интересующихся подробностями: Семёнов М. В. Родина историка В. Н. Татищева. Землевладения Татищевых в Выборском уезде Псковскойземли // Научно-практический, историко-краеведческий журнал «Псков». № 53. 2020. С. 68—82. Текст есть в Сети).
В книге Блюмина 5 глав, но реально она делится на две равные части. И в первой из них, вопреки названию книги, нам будут рассказывать не о юности, а о детстве Татищева. Начиная с младенческого возраста. Поскольку о раннем детстве героя ничего не известно, Блюмин дал волю своей фантазии. И начал с чудовищной нелепости: Никита Алексеевич Татищев, псковский дворянин средней руки, после рождения второго своего сына, Василия, немедленно выписывает из принадлежащей шведам Нарвы молодого учителя-немца («немчича», как везде пишет Блюмин, пытаясь стилизовать свой текст под старину). Старшему сыну Никиты Татищева, Ивану, три года, а младший ещё пищит в колыбели; и кого же будет учить «немчич»? Этим вопросом Блюмин не задаётся. Зато как им расписаны достоинства будущего домашнего учителя!
... Орндорф с ранних лет покинул родную Нарву, работал помощником у самого великого Гюйгенса, когда тот создавал в Париже свою знаменитую машину, учился в университетах Европы.
(с. 14)
На руках у этого самого Иоганна Орндорфа «дипломы с печатями университетов в Лейдене, Бредах и Упсале»; он владеет несколькими языками, включая русский. Ладно, русский язык житель пограничной Нарвы в принципе мог изучить. Но когда этот 24-летний малый успел поездить по европам и окончить три университела?? На каких факультетах он учился? Откуда брались у него деньги, чтобы жить годами за границей, да ещё и платить за обучение? Как попал он в Париж к Гюйгенсу, и зачем этому великому учёному, офранцуженному голландцу, понадобился помощник-немец? Почему этот немец, получивший столь завидное место, не прижился в Париже и вернулся в родную Нарву, где его энциклопедические знания заведомо не будут востребованы? Почему так легко соглашается отправиться к диким московитам, да ещё и без каких-либо предварительных условий?
... Иоганн только сбегал попрощаться с отцом и сестрой и явился на пристань одет, в чём был, с сундучком дорожным.
(с. 14)
А ведь он, в сущности, поступает в услужение, да ещё и к совершенно неизвестному человеку, какому-то иноверцу...
В общем, Блюмин изрядно заврался уже на первых страницах своей повести. Как всякий графоман, он явно убеждён, что вправе наделять своих вымышленных персонажей любыми качествами и делать с ними всё, что угодно (профессиональные литераторы хорошо знают, что так нельзя: у героев должна быть «своя биологическая воля», как выражался Горький). Но Блюмин во власти навязчивой идеи: он не верит, что Василий Никитич Татищев, на исходе жизни имевший репутацию одного из самых образованных людей своей страны, в детстве мог получить лишь самое обыкновенное русское начальное образование. Точно такое же, как и у тысяч других дворянских детей его времени. Блюмин не понимает, как из обычного дворянского сына получился столь незаурядный человек (тем более, что выдающиеся качества своего кумира он ещё и преувеличивает). И вот появляется идея: дать юному Васе Татищева гениального учителя-иноземца. И для верности — прямо с колыбели.
... крошечный Василий потянул из колыбельки пухлые ручонки и заулыбался, когда учитель поиграл перстами над его личиком. Нянька засуетилась, поправила пелёнку, пригладила редкие каштановые волоски над большим челом младенца: «Великий человек будет, помяните моё слово»
(с. 29)
Ради этой идиллической сцены нашему автору пришлось наплевать на исторические реалии. Наём провинциальным дворянином учителя-иноземца происходит у него в 1686 году! То есть за несколько десятилетий до появления в России моды на гувернёров-иноземцев. Причём зачинателями этой практики были большие вельможи, а среди дворян провинциальных, всегда подражающих столичной знати с запозданием, такое станет обычным только при Екатерине Великой. В 1686 г. Русь оставалась ещё страной кондовой, патриархальной, и тогдашних дворян отнюдь не науки интересовали. А иноземцы воспринимались прежде всего как иноверцы. Как еретики, общение с которыми опасно для душ православных.
Но всё это Блюмин игнорирует. Решил он, что Васю Татищева и его старшего брата Ивана учить будет немец — значит, так тому и быть! Ведь немцы тароваты, им ведом мрак и свет:)
Учитель Орндорф в книге занимает очень много места, а в первой её половине является едва ли не главным героем. Но Васеньку Татищева мы тоже видим часто: во второй раз — когда ему уже 3 года (с. 44). Судя по описанию его детских игр на протяжении дня (с. 45—48), он не по возрасту развит, а к вечеру и вовсе оказывается вундеркиндом: оказывается, «немчич» Орндорф уже вовсю учит не только 6-летнего Ваню, но и 3-летнего Васеньку.
Вечером оба брата, Иван и Васенька, делают урок, заданный учителем. Иван штудирует арифметику, а маленький Васенька листает «Азбуку» Ивана Федорова, что издана сто лет назад в Остроге. Васенька уже может разобрать кое-что из написанного и выписать гусиным пером, ставя поминутно большие кляксы, буквы, красиво нарисованные на страницах «Азбуки». Губы Васенькины шевелятся, он читает по слогам: «Сказание. Како состави святый Кирилл философ азбуку, по языку словеньску. И книги преведе, от греческих на словеньский язык».
На следующий день уже никаких игр не будет: учиться, учиться и учиться!
... Наутро, после завтрака, маменька Фетинья Андреевна никак не может выпроводить Васеньку погулять. Хоть и очень хочется Васеньке на озеро, где Петруша Дмитриев, он знает, смолит с отцом лодки, однако не хочет он отставать от старшего брата и торопится вслед за Иваном по лестнице в башенку, где учитель Яган Васильевич будет спрашивать урок.
В узкое и высокое окошко хорошо видны и озеро, и заозёрная даль, и часовня на сельском погосте. В другое окошко, словно пушечный ствол, упирается чёрный телескоп с множеством хитроумных винтиков и колёс. Яган Васильевич поднимает Васеньку на руки и сажает его на высокий стул возле телескопа. Затем берёт в руки острую палочку и пишет ею на навощённой доске задачу по арифметике. Палочка переходит в руки Ивана, и тот осторожно выписывает решение задачи. На столике у первого окна аккуратно разложены книги. Тут и славянские грамматики Лаврентия Зизания и Мелетия Герасимовича Смотрицкого, «Риторика» архиепископа Макария, древнерусские жития святых, писанные Пахомием Логофетом. В чёрных кожаных обложках с медными замками лежат на полках «Поэтика» Скалигера и «Поэтика» Аристотеля, рядом — рассуждение византийского писателя IX века Георгия Хировоска «О образех» вместе с «Изборником Святослава Ярославича 2073 года». За книгами Максима Грека стоят «Азбуки» Ивана Федорова и трактат «О писменах» черноризца Храбра. А вот изданная Мамоничами в Вильно в 1586 году, за сто лет до рождения Васеньки, «Грамматика словеньская языка». И ещё множество книг, сложенных прямо на полу, у стены, по астрономии, истории, праву, математике, механике, торговому делу, рудознатсгву, ботанике. Изданных в разные годы в Вильно, Париже, Лондоне, Стокгольме, Варшаве, Чехии, при Киево-Могилянской академии. На латыни, по-русски, по-гречески, по-польски, по-немецки.
Цитата не случайно такая длинная: там же описание библиотеки провинциального дворянина! Библиотеки, сформировавшейся к 1689-м году... Кто бегло проскочил это место — перечитайте, оно того стоит. Это даже сильнее, чем взявшийся невесть откуда телескоп:)
Следующий раз Васенька появляется на страницах книги, когда ему идёт уже девятый год. Как и 11-летний старший брат Иван, он служит при дворе, в стольниках у царицы Прасковьи (жены Ивана Алексеевича, старшего брата Петра). Хотя Васенька успел подрасти и многому должен был научиться, он более не изображается вундеркиндом. Его странное поведение заставляет даже заподозрить некоторое отставание в умственном развитии.
... В конце лета 1694 года, на праздник спаса (с маленькой буквы - не опечатка, книжка-то советская. - А.Г.), явились в Спасское в дворцовой карете четыре стольника от царицы Прасковьи Федоровны звать боярина Петра Васильевича к царскому столу, в Измайлово. Шереметев вышел к царским посланцам в богатых боярских одеждах <...> Стольники поклонились боярину. Все четверо — совсем ещё мальчики, и боярин подумал, что могли бы прислать за ним кого-нибудь и посолиднее. Самый младший, в ловко скроенном кафтанчике, и вовсе не поклонился, а только с интересом разглядывал холёную боярскую бороду в кольцах-завитках.
— Кланяться надобно, отрок, — сказал Шереметев младшему из гостей, — чин почитать.
— Сам кланяйся, — дерзко и звонко проговорил мальчик, — у тя, вишь, какое брюхо толстое, стало быть, полезно лишний раз поклониться.
(с. 68)
Ну занятная же книжка, правда? Повод для улыбки есть буквально на каждой странице, а местами и от смеха удержаться трудно. Право, не жаль потраченного времени.
Далее действие перемещается в дворцовое село Измайлово, где Васенька снова принимает облик вундеркинда:
Часы напролёт проводит Вася Татищев над книгами, с одинаковым наслаждением читая стихи и летописные тексты, немецкую грамматику и изданную на латыни геометрию.
К сожалению, домашний быт царицы Прасковьи и её дочерей мы не увидим: ближайшей зимой Ваня и Вася Татищевы по воле автора отправятся «на побывку» в деревню (с.83). В этом не было нужды, поскольку отец юных стольников имел собственный двор в Москве, но наш автор ведь этого не знает... Далее он описывает деревенскую жизнь и новые занятия мальчиков с учителем-немцем, который успел побывать в Москве и «много узнал нового» (с. 90). Теперь он будет учить детей даже «русской словесности» (с. 91), а между делом рассказывать о Гюйгенсе, который «обосновал и обозрел выдвинутую Коперником теорию мироздания». А ещё он будет декламировать Овидия (в переводе С.В. Шервинского, 1977 года) и пересказывать взгляды «Гесиода и Лукреция, древнегреческих философов-материалистов» (с. 94).
Отправив Васю Татищева в деревню заниматься с вымышленным учителем-немцем, горе-писатель лишил его возможности познакомиться в Москве с лицом историческим: с окольничим Алексеем Тимофеевичем Лихачёвым. В реальном прошлом юный царицын стольник, интересовавшийся книгами, водил дружбу с этим бездетным старым придворным, имевшим хорошую личную библиотеку и писавшим историю своего времени. И это не домысел, Татищев сам об этом свидетельствует: «Лихачев, бывшей учитель царя Феодора II-го, жизнь оного государя обстоятельно описал, которую я у него сам видел и читал, но после нигде достать ея и о ней наведаться не мог» (Татищев В. Н. История Российская. Т. 1. С. 85).
А какие редкие зрелища пропустил юный герой книги, оставаясь по воле автора в деревне! Во-первых, 30 сентября 1696 г. было многочасовое парадное шествие по Москве победоносной петровской армии (после взятия Азова). Во-вторых, 3 марта 1697 г. всем желающим можно было видеть необычно обставленную казнь участников «заговора Циклера» в Преображенском (публичные казни всегда привлекали массу зрителей). Представляете, как обыграл бы такие сюжеты профессиональный литератор? И ещё много чего можно указать упущенного... Ну да ладно, замнём для ясности. Нас ждёт уже вторая часть книги. И есть надежда, что нам покажут наконец не детство, а юность Татищева.
Этот период жизни будущего историка более-менее сносно освещён уцелевшими документами, причём их основная масса введена в научный оборот уже давно. См., например: Колосов Е.Е. Новые биографические материалы о В. Н.Татищеве // Археографический ежегодник за 1963 год. М.: 1964. С. 106–114. Однако наш автор, похоже, был незнаком с этой важнейшей публикацией (или решился её игнорировать). В результате рассказ о юности Татищева оказался не менее фантастичен, чем рассказ о его детстве. Пути исторического лица и литературного героя сильно расходятся.
В книге есть курьёзный эпизод, отнесённый к 1696 году: царь Пётр, узнав, что у царицы Прасковьи уже 263 стольника, велел распустить «сие ненадобное войско» (с. 101). В реальной истории царицыны стольники были Петру очень даже надобны. 19 августа 1700 г., в день начала войны со Швецией, он легко нашёл применение всем 169 стольникам двух «великих государынь цариц»: «написать в полковую службу и быть ныне на службе в Свейском походе» (Захаров А. В. Открывая новые страницы о юности В. Н. Татищева (по документам Разрядного приказа) // ТГЭ. Т. 43. СПб., 2008. С. 127, прим. 12). Конечно, это никого не обрадовало: дворянам XVIIвека свойственно было уклоняться от военной службы всеми правдами и неправдами. Братья Татищевы оказались в числе тех, кому это удалось: сообщив дьякам Разрядного приказа ложные данные о своём возрасте, они получили отсрочки. Совсем не то происходит в книге Блюмина: у него братья Татищевы преисполнены патриотизма и рвутся на войну, причём служить хотят рядовыми солдатами («обои хочут поступить в полк», как выражается Блюмин, с. 133). Но вот беда: не принимают! Какие-то смотры новиков устраивают, и туда ещё надо быть допущенными; и отказать могут! И вот 3 января 1704 года литературный Никита Татищев пишет письмо столичному вельможе, Автоному Иванову:
... Много годов в службе моей обретаетца из немчичей добрый человек, он выучил славно детей моих, из коих старшего Ивана двадцати годов и Василея на осьмнадцатом посылаю к твоей милости. Обучены они грамматике российской, швецкому, немецкому и польскому языкам изрядно, математическим наукам, геодезии, фортификации, артиллерии и не токмо в сих науках преуспели, понеже и в прошлом годе оба были на Москве в той школе математических и навигационных, то есть мореходных, хитростию наук учения, что ныне в Сухаревой бывшей полковой избе, и сказано им, что знают не мене, чем та школа дать может: посему к пользе Отечества обои сыны мои хочют поступить в полк понеже добре горазды употреблять и экзерцицию салдацкую. <...> ... в сем генваре набор будет чад жильцов и стольников в Москве для военной службы, новиков. Посему вспоможествуйте двум чадам моим к экзамену сему быть допущенными (подчёркнуто мной. – А.Г.).
(с.133)
Ну и зачем все вышеперечисленные плоды просвещения? Где и как смогут применить их братья Татищевы, попав в солдаты? Нет ответа. Но впереди в книге – волнительный смотр новиков, где будет что-то вроде экзамена. Литературные братья Татищевы успешно его выдержат, и начнётся их служба в драгунах. Они примут участие в осаде и взятии Нарвы (9 августа 1704 г.), а затем и в других военных действиях, включая неудачное для русских сражение под Мур-мызой (15 июля 1705 г.). Здесь оба брата получат серьёзные ранения, зато вскоре будут произведены за проявленную доблесть в чин поручиков (с. 188). В марте 1706 г., оправившись после ранений, братья-поручики, как опытные уже вояки, учат в Смоленске новобранцев (с. 190). Летом того же года новонабранный драгунский полк отправляется... нет, не на войну, а почему-то из Смоленска в Москву! (с. 191). Между тем исторические братья Татищевы, типичные дворянские недоросли, на протяжении целых шести лет (1700-1706 гг.) груши околачивали... нет, не совсем так: в 1605-1706 гг., надо думать, они всё-таки обучались драгунскому строю в Москве, поскольку летом 1706 г. были произведены в поручики. Да, они стали офицерами, в глаза не видав неприятеля! А как иначе? В солдатах служили мужики-рекруты, из пашенных крестьян; а офицеров приходилось набирать из молодых дворян (умеющих, по крайности, читать и писать).
12 августа 1706 г. (в реальной истории) драгунский полк Автонома Иванова отправился на войну: выступил из Москвы в сторону Смоленска. И где-то на полпути между этими двумя городами реальные поручики Татищевы разминулись со своими призрачными литературными двойниками (в это самое время двигавшимися, как мы помним, в прямо противоположном направлении).
Дальнейшие зигзаги повествования пересказывать скучно (отмечу только, что автор счёл нужным познакомить поручика Титищева с царём Петром). Кульминация второй части книги – конечно, Полтавская битва. Под Полтавой реальный Василий Татищев и его беспокойный литературный двойник наконец сливаются воедино: ранним утром 27 июня 1709 г. поручик Азовского драгунского полка Татищев доблестно сражается со шведскими конниками на линии редутов (с. 216-217). Однако на втором, решающем этапе сражения, в поле между русским ретраншементом и Будыщенским лесом, где столкнулись основные силы сторон, литературный персонаж опять отделяется от исторического: автор послал его в самую гущу боя, спасать жизнь государя (ни много ни мало).
... В восемь часов утра бой затих. Полки перестраивались. Василий, стоя со своей ротой на прежнем месте, чувствовал, что главное сражение ещё впереди. Отсюда, с возвышения, видно было, что русская армия стоит теперь в две линии; Татищев был в передовой, на фланге. В центре — пехотные полки Шереметева, на другом фланге — снова конница.
Сошлись с врагом пехотные рати Шереметева. Конница обтекала место боя с флангов. Татищев видел, как на левом фланге «новобранцы» в серых мундирах приняли на себя страшный удар отборных полков. В рукопашной первый батальон новгородцев начал отходить. И тогда вновь возник перед глазами Татищева высокий всадник в мундире полковника Преображенского полка. Желтые кожаные краги, чёрный плащ, шляпа. И горящие гневом глаза Петра. За свистом ядер и пуль Татищев не слышал команду Петра, но понял, что царь сам повёл в атаку второй батальон новгородцев. И ринулся со своими драгунами следом. Не выпуская ни на секунду из поля зрения высокого всадника, круша палашом направо и налево под тысячеголосое «ура», с радостью заметил, что приблизился к самому Петру. Справа шведский рейтар в распахнутом синем мундире попытался пикой достать Петра. Василий выстрелил из пистолета в упор, вновь перехватил палаш, схватился вплотную с другим, сбил с коня. Сильно толкнуло в правое плечо, боль пронзила руку до самых пальцев. «Только бы не выронить саблю», — подумалось. И он перехватил палаш левой рукой, видя, что правый рукав мундира темнеет от крови. Поднял глаза: Пётр, бросая шпагу в ножны, подъезжал к нему. Драгуны оттеснили от царя шведов и погнали прочь. Татищев услышал слова Петра и понял не вдруг, что слова эти обращены к нему: «Славно, господин поручик! Да это ты, Татищев? Поздравляю тебя раненым за Отечество!» Пётр обнял осторожно и поцеловал Василия в лоб. «Лекаря поручику, живо!» — и умчался в битву.
(с.218-219)
Литературный Татищев, находящийся со своей ротой на правом фланге, зорким соколом обозревает всё поле битвы. Сквозь завесу порохового дыма и пыли, непроницаемую для взглядов других людей, он видит всё, что происходит вдоль растянутой на два километра боевой линии. И видит, что на левом фланге царь сам ведёт солдат в атаку. Государь в опасности! Не получая никакой команды, он бросает отведённое ему полковым командиром место в строю полка и уводит за собой свою роту куда-то на другой фланг... По-моему, его расстрелять должны были за такой «подвиг». Сам царь и приказал бы его расстрелять, в назидание прочим: он не терпел подобных нарушений воинской дисциплины. И не посмотрел бы даже на важную помощь, оказанную ему своевольным поручиком в рукопашной схватке...
А вот историческому Татищеву спасать царя не пришлось, его роль на втором этапе сражения была серой и будничной. И он сам нам сейчас об этом расскажет.
— Мне сие в памяти, что в Полтавской баталии полк Новогородской (драгунский. – А.Г.), бывшей в нашей бригаде, имел синей мундир, подобен шведскому, и стоял подле нашего полку на левой руки. И как по нас пехота шведская, бывшая у лесу на их левом крыле, стали стрелять, от чего кони помялись, и велели нам прочь отступить, а на наше место привели гвардию. В то время генерал-майор князь Волконской с оным Новогородским полком пришел между шведы вперед, ибо конница шведская от пушек из линий уступила, наш же подполковник, не усмотря того в дыму, пошел також меж нашей и шведской пехоты. И как дым и пыль приподнялися, увидели они полк, противо нас стоящей, и, не усмотря знаков, думая, что шведы, тотчас хотели на них напасть, и некоторыя роты стали стрелять. Что увидя, оной генерал-майор прислал сказать, и тако удержал; однако ж от стрельбы не без урону учинилося.
(ТатищевВ. Н. История Российская. Т. 2. М., 1963. С. 238).
На пути возвеличивания своего героя автор книги зашёл достаточно далеко. Но это ещё только половина дела. Рукопись надо было как-то продвинуть в печать; и кто станет первым читателем? Правильно: редактор советского издательства, ответственный работник идеологического фронта. Весьма желательно, чтобы герой книги ему понравился. А для этого нет лучшего способа, нежели представить этого героя советским человеком. Кто думает, что это неразрешимая задача, тот очень ошибается.
Процесс запущен уже в предисловии: автор проходит через село Болдино, некогда принадлежавшее Татищеву.
... Я вижу в Болдине небольшие пруды, я вижу те старинные погреба, что выложены внутри мрамором, я вижу несколько уцелевших давних строений. Это от эпохи Татищева. Ия думаю, что современный совхоз, где живут сегодняшние труженики Болдина, — это тоже от Татищева, от его знаний и трудов, завещанных потомкам.
(с. 7)
Далее, непосредственно в тексте повести, надо показать близость юного стольника Татищева к народу. Следует разговор по душам с кучером Егором, по совместительству московским стрельцом (!).
— Стеньку Разина, Степана Тимофеевича то есть, весь народ русский помнит. Хоть и не гоже про то сказывать царскому стольнику, а молод ты ещё, малец совсем, и душа покуда чистая, светлая. Расскажу я тебе, Вася, историю, что от отца Гаврилы Ивановича слышал в детстве. Было это с ним годов с двадцать пять назад. Собрали их тогда, стрельцов московских, две сотни, и голова стрелецкий Василий Пушечников повёл их на город Арзамас, и пушки с собой велено было взять. А в Арзамасе стоял в ту пору воевода князь Долгорукий с рейтарами, драгунами и иноземными наёмными войсками. Во всей округе поднималось крестьянское восстание, и бежали от Стеньки Разина в Арзамас, в осадное сиденье, в сентябре 1670 года стольники и стряпчие, дворяне московские и жильцы арзамасские, помещики и вотчинники, дворяне и дети боярские.
Душа юного стольника Татищева (столбового дворянина, по родовой легенде прямого потомка древних смоленских князей) настолько чистая и светлая, что он спокойно выслушивает всё это. А Егор продолжает свою апологию бунта: следует весьма сочувственный рассказ о делах знаменитой Алёны Арзамасской.
Алёна Арзамасская во главе повстанцев. Рисунок неизвестного мне советского художника (картинка из Сети).
... Сожгли её живой в срубе. Отец видел, сказывал: просила она перед смертью, чтобы храбро бились за своё счастье простые люди, тогда повернут князья вспять. Сама перекрестила по русскому обычаю сперва лоб, потом грудь и спокойно взошла на костёр...
— Егор, а за что бьют и мучают простых людей? Ведь часто мужик умней своего господина...
Ниже мы увидим, что кучер Егор оказал мощнейшее воздействие на сознание юного стольника. Подрос стольник, вступил в службу, стал офицером, но народу сочувствует до такой степени, что прямо язык чешется... Вот сцена беседы 22-летнего поручика Татищева с его покровительницей, вдовой царя Ивана Алексеевича. Действие происходит весной 1708 года. Татищев упоминает в разговоре, что его дядя отправился в поход на Дон.
— Это где бунт учинил Кондрашка Булавин? — спрашивала Прасковья Федоровна, сидя в кресле у камина комендантского дома, покуда царь Пётр обходил город. — Сказывают, больно мягок Фёдор, дядя твой. А ведь Булавин-то атамана Максимова казнил и сам срубил голову брату князь-Василия князю Юрье Владимировичу Долгорукому.
— Казаки донские поднялись за древнюю волю свою, а Кондратия Булавина атаманом выбрали на кругу казачьем. — Василий помнит дядюшкино письмо, полученное в Москве. — Да и государь не велит казнить бунтовщиков, понеже люди ему зело нужны.
— Этак, пожалуй, ты и сам, Татищев, взбунтуешь солдат. — Прасковья Федоровна, всё ещё миловидная, невзирая на свои сорок четыре года, тряхнула чёрными, подкрашенными кудрями.
(с. 205)
А сейчас мы увидим тяжкий припадок бытового демократизма: где-то «в краю пинских болот» (с. 229), т.е. на территории Речи Посполитой, поручик Василий Татищев в сопровождении своего слуги, Александра Васильева, является с неким поручением царя Петра в поместье местного пана, князя-Рюриковича Друцкого-Любецкого.
Усадьба князей Друцких-Любецких в Парохонске. Фото 1930-х гг. (из Сети)
... Затем Василий представил Друцкому-Любецкому своего спутника и объявил, что хотя Васильев — его крепостной, однако он видит в нём своего верного товарища и потому просит быть за столом и в доме им вместе. После чего в сопровождении Александра отправился вслед за князем в его кабинет, пообещав княгине непременно через час быть к ужину.
— Знаю, что Татищевы ведут свой род от князей Смоленских, природных Рюриковичей, потому счастлив приютить в моём дворце господина поручика, — говорил Онуфрий Стефанович Друцкий-Любецкий, усаживая гостя и не замечая стоящего у дверей Васильева.
— Садись рядом, брат Васильев, чего оробел, вишь, и мы с тобою не лыком шиты, — улыбнувшись Александру, поманил его Татищев. Васильев подошел к столу, на котором стояло чернолаковое бюро, сел рядом с поручиком, держа на коленях кожаную сумку с бумагами.
(с. 231)
Как видим, всё удалось: князинька даже вякнуть не посмел. Петровский офицер – пионерам пример! )
... А если серьёзно, то все эти игры нашего автора производят крайне удручающее впечатление. Аннотация на 4-й странице обложки гласит: «Эта книга идет к читателю в год 300-летнего юбилея со дня рождения Василия Никитича Татищева (1686–1750)». Нашли что издать! Более тяжкого оскорбления памяти знаменитого историка я вообразить себе не могу. И очень опасаюсь, что покойник в гробу перевернулся, когда потомки так его поздравили с днём рождения.

Это действительно книга о юности удивительного человека Татищего, написанная красивым описательным языком, с любовью к России и героям книги. Очень жаль, что ограничились только юностью, не освятив всю жизнь Василия Никитича, географа, историка, филолога, писателя, математика, геодезиста, металлурга, этнографа, палеонтолога, дипломата, основателя Свердловска (Екатеринбурга) и Оренбурга, который воевал со шведами под Полтавой, с турками в Русско-Турецкой войне. Правда в книге описаны только военные сражения.
Умер Татищев тоже необычно.
Плотный текст, полухудожественный, добрый, со множеством мелких подробностей из быта семьи Татищего, что меня удивляло, откуда автор это взял. По тексту видно как петровские реформы отражались на обычных людях. Жаль, что произведение не проходят в школе на уроке истории, тогда в головах учеников намного лучше отложились знания за период правления Петра I.
Пример стиля текста:
Красивые описания:
Очень хочется почитать ещё подобное этому, обязательно буду перечитывать.
Другие издания
